
капрал Ян Курдвановски, псевдоним "Шаг",
род. 7.10.1924 г. в Варшаве
группировка "Сосна"
Батальон "Хробры I"
рота "Лиса"
Свидетельства очевидцев Восстания
Муравей на шахматной доске – воспоминания варшавского повстанца из батальона "Хробры I"
(фрагменты публикуем с согласия автора)

капрал Ян Курдвановски, псевдоним "Шаг",
род. 7.10.1924 г. в Варшаве
группировка "Сосна"
Батальон "Хробры I"
рота "Лиса"
Когда я вспоминаю Восстание, то вижу своих товарищей, словно на старой фотографии. Из года в год она выцветает, и я думаю, что самое время что-то написать о них и о себе, прежде чем и я стану только фотографией. В первые годы после войны их лица все еще жили, были грустными, испуганными, яростными, смеялись, морщились, пили, ругались, даже плакали. Но с течением времени все меньше и меньше.
Вроде бы некогда луна быстро вращалась вокруг своей оси, каждый раз показывая земле новый облик. Проходили миллионы лет, а луна все более замедлялась, пока, наконец, не замерла, и теперь показывает нам только одно лицо, как на фотографии.
Например, "Том": я помню его поредевшие волосы и грустные ввалившиеся глаза, так, как я видел его в последний раз на носилках. Я стараюсь представить себе, что "Том" смеется или ест, напрягаю всю силу воли – напрасно, все время та же самая картина: грустные ввалившиеся глаза.
Или "Стасек-Баррикада": высокий, статный, крепкий, веснушчатый блондин с трубкой в зубах. Я пытаюсь вызвать его лицо из глубин времени, заставить, чтобы оно хоть на минуту ожило и заговорило, но все усилия напрасны, по-прежнему только веснушки и трубка.
Или Рысек, псевдоним "Вилит", вооруженный до зубов английским стэном, низкий, чернявый, упорный. К шлему LHD (Luft-HilfsDienst - вспомогательная противовоздушная служба) он прицепил сзади коричневую бахрому. Он не боялся. Чем хуже было, тем более грозным он выглядел. Всегда, когда я вспоминаю Рысека, появляется упрямое лицо в профиль, ремешок под подбородком и бахрома.
Из полумрака моей памяти возникают один за другим эти ловкачи с варщавского предместья. Я думаю, что если бы они действительно были такими ловкачами, какими их считали, то не закончили бы в двадцать лет в безымянных ямах.
 Станислав Бугайски "Стасек-Баррикада" |
 Могила солдат батальона "Хробры I" |
Друзья советуют: пиши, что помнишь, всю правду. А на самом деле было так: огонь, дым, пыль, грохот, пикирует, бежит, стреляет, падает, встает, не встает, подъезжает, отъезжает, видно, не видно. Panzerwagen, Sprenggranat, Tiger, Panther, Flak, Pak, Heinkel, Sztukas, Goliat, Messerszmit, Nebelwerfer, Sturmgeschiitz и Sprenggranat, Tiger, Panther, Flak и Pak. Добавив хейнкеля, штукаса, "голиафа", мессершмидта, "Большую Берту" и тасуя эти несколько десятков слов в неисчислимое количество комбинаций, можно описать всю панораму Восстания с высоты птичьего полета. Дневники Шпеера на какое-то время лишили меня храбрости. Он видел вторую мировую войну с высоты полета ястреба, я с позиции муравья. Кого заинтересуют переживания муравья, который спотыкается о каждую песчинку и не видит дальше ближайшего стебелька травы?

Взрыв 610-миллиметрового снаряда "Thor" в здании "Прудентиаля"
(Фот. Сильвестр Браун, из книги Владислава Евсевицкого "Варшавское Восстание 1944 в объективе польской камеры",
Издательство Interpress, Варшава, 1989 г.)
Автор описывает атмосферу, предшествующую началу Восстания: первоначальную панику и бегство немцев, а затем возвращение их войск в Варшаву и на ее предместья. Армия Крайова в течение двух дней находится на исходных позициях для начала восстания. Тревога отменена, и рядовой "Шаг" возвращается в свою квартиру. В квартире он один, потому что родители уехали из Варшавы. Фронт находится так близко, что автор видит его вечером с верхнего этажа своего дома. Следующий день – 1 августа 1944 года.
Около пяти со стороны Средместья донесся отзвук отдаленной стрельбы, а через пару минут стрельба была слышна отовсюду. Только на Повислье казалось относительно тихо. Восстание началось, а я был дома, часть моего расчета на Мокотове, а командование на Воле.
Забрав семейное золото, автор пробирается через Средместье, в котором продолжаются бои, на Волю, где находится сборный пункт его отряда. Он добирается до пивоваренного завода Хабербуша, где собирается его батальон под названием "Хробры". Его ротой командует поручик "Лис".
Раз за разом разносятся слухи о доставке оружия. Мы немедленно строились в две шеренги, рассчитываясь при голубом свете фонариков и записывая псевдонимы. Мы маршировали или проталкивались туда, где должны были его раздавать, кружили по подвалам и коридорам завода, мокли под дождем. Вода стекала мне в сапоги. Темное небо освещало зарево пожаров. Я боялся потеряться, чтобы не быть последним за оружием – и так проходил час за часом, пока не начало светать; в круговороте сотен незнакомых лиц я уже начинал различать некоторых ... Стрелок "Грозный", большая лохматая голова, красная нахальная физиономия, огрызается на слова командиров. Тот с наганом на веревке, обмотанной вокруг шеи. Веснушчатый поручик в синей кепке, "Сук" или что-то похожее. Подпоручик "Титус" – худой, маленький, с костистым лицом и запавшими глазами а ля Геббельс. Уже наметился раздел на повстанцев первой и последней категории, вооруженных и безоружных.
Время от времени во двор пивоваренного завода вбегал офицер, ищущий добровольцев на вылазку. Так я впервые увидел выского, осанистого, лысеющего блондина в звании капитана. Ему нужны были несколько "толковых парней". Он выражался сдержаннее младших офицеров. Вызвался и я. Он взглянул на меня, но выбрал других. На вылазку брали главным образом вооруженных, а других только тогда, когда они проявляли исключительный боевой дух. Полагаю, что штыка, длинного финского ножа, а наверняка даже и средневекового лука хватило бы. Вскоре я узнал, что это был командир батальона капитан "Сосна". Офицеры прицепили себе звездочки, но у остальных не было никаких знаков различия. Командир моей роты, смуглый брюнет с кривым носом, поручик "Лис" был кавалером креста Виртути Милитари. Он получил его в 1939 г.
Мы попали в лапы того подпоручика в синей кепке, с полным веснушчатым лицом, несдержанного на язык и с мерзким голосом. Он все время муштровал, подгонял, перегонял, ругал и смотрел на нас с отвращением.
- Это не харцерство, - орал он, - это армия.
Услышав это в пятидесятый или сотый раз, я почувствовал тошноту. Что бы мы ни сделали или ни сказали, он обзывал нас харцерами. Вид своего взвода, как кто-то позже метко заметил, вызывал у него эрекцию языка. Появлялись также другие незнакомые подпоручики, подхорунжие, сержанты. Они строили нас, отсчитывали, муштровали, записывали, ругали.
Канонада усиливалась. Вроде бы танки пробивались по Товаровой на Вольскую и отступали на запад. То якобы снова возвращались с запада и с Вольской сворачивали на Товаровую. Появились раненые. Я представлял себе Восстание как большое приключение - "на коне без седла, любовница в одной руке, револьвер в другой", как подшучивал надо мной мой друг Лёлек-марксист.
А тут я сижу на заводе, стою по стойке "смирно", делаю повороты, слушаю рассказы о тех, кто сражается, и жду выдачи оружия. Я даже боюсь делать что-нибудь на свой страх и риск, потому что меня вычеркнут из списка повстанцев как дезертира, и оружия я тогда уж точно даже не увижу. И так тянется этот ужасный день. Те, что сражаются, возвращаются с передовой уже частично переодетые в немецкую форму. Если мундир не подходит, меняются между собой, реже перепродают. Предложение маленькое, спрос огромный. Немецкая шапка, куртка, ремень, не говоря уж о шлеме – это предмет гордости и восхищения. Офицеры, особенно те, что старше по возрасту, как правило, одеты в штатское или носят части польских довоенных мундиров. Толпа повстанцев в принципе одета в штатское с некоторыми отклонениями в солдатско-спортивно-рабочий стиль. Тут и там армейские шапки, куртки, брюки – светло-зеленые довоенной польской армии, серо-зеленые Вермахта и травяные немецкой полиции. Ветровки, рабочая одежда, бриджи, лыжные ботинки, синяя униформа, форменные шапки трамвайщиков, железнодорожников, пилотки, кепки, береты. Выделяются ремни: парикмахерские для заточки бритв, немецкие с надписью "Gott mit uns" и офицерские, светло-коричневые, инкрустированные латунью. Чтобы избежать расстрела в случае попадания в плен, у каждого бело-красная повязка на левой руке.
Через пару дней пришел приказ – переодеть повязки с левой руки на правую. Причиной было то, что все больше повстанцев носили немецкие мундиры, и возникло опасение, что один поляк может убить другого. Во время стрельбы, особенно из револьвера, правая рука видна лучше левой, поэтому повязки должны были предотвратить возможные ошибки.
Совершенно очевидно, что этот приказ не имел смысла. Немцы наверняка сталкивались с подобными трудностями при распознании собственных солдат, а принимая во внимание, что на их стороне было огромное преимущество в огневой силе, замешательство и трудности при взаимной идентификации могли пойти повстанцам только на пользу. Кроме того, поляк к балагану привычен, а немец теряет голову.
В перерывах между сборами я слоняюсь по заводскому двору, а вокруг кипит бой. В Варшаве Восстание, битва на восточном предполье столицы, фронт от Балтики до Черного Моря, Италия, Нормандия. А тут, у Хабербуша, неизвестно, что происходит в других местах, причем не из-за отсутствия новостей, а из-за их избытка. Чего только тут не услышишь: русские прорвали фронт и окружают Варшаву с запада, Гродзиск уже занят, Вермахт бунтует и только СС сражается, Мокотув и Жолибож освобождены от врага, немцы сражаются только с русскими, в Нормандии сдаются американцам. Вообще действует правило: чем дальше театр военных действий, тем благоприятнее новости. Кажется, что ожесточеннее всего немцы сопротивляются в нашем районе.
Центром моего мира является пивоваренный завод Хабербуша, а особенно его двор. Санитарки, как изголодавшиеся волчицы, бросаются к немногочисленным раненым, чтобы в первый раз в жизни перевязать настоящую рану. Надо быть на ногах все время и ничего не упускать из виду, чтобы быть первому там, где начнут раздавать оружие. Теперь уже не говорят об оружии с тайных складов, а только о захваченном у немцев.
С завода выходят ударные группы на передовую. Передовая это что-то неопределенное, сбор названий: Товаровая, Твардая, Валицув, Хлодная, Крохмальная, Гжибовская, Вроня, Огродовая, Nordwache [Nordwache – комендатура полиции в Варшаве Северной]. А новости меняют направление, как волны в центре циклона. То по Товаровой отступают горящие танки, которые повстанцы забросали бутылками с бензином, политурой, олифой, спиртом, эфиром. То наоборот, по Товаровой едут победные танки, дома горят, улица услана трупами. И так постепенно для нас, собранных на заводе, улица Товаровая становится важнейшим фронтом второй мировой войны.
После полудня настроение ухудшается, во всяком случае, мое настроение. Безоружных должны отправить домой. Так кончается сон о шпаге. Танки снова крутятся поблизости. Куда ни посмотришь – дымы пожаров.
Я остановился возле часового в воротах завода. Вооруженные, хотя бы только каким-нибудь пугачом, начинают относиться к нам как к банде тыловых крыс и трусов. Но этот повстанец не задирает нос, хотя у него есть и винтовка, и немецкий шлем. Пулемет стреляет вдоль улицы. Первый раз я слышу скрежет пуль, ударяющих в стену. Меня мутит, не хватает воздуха. Однако я прилагаю усилие, чтобы не прекращать разговор. Часовой вынул из кармана зеркальце, протер, осторожно высунул за излом стены и смотрит в отражении туда, откуда стреляют. Внезапно я понимаю очевидную вещь, что выстрелить – это не значит попасть, что пуля, которая пролетает в шаге от моего живота, так же безопасна, как и та, которая пролетает в километре от меня, и даже менее опасна, чем та, которая еще не выпущена. Я чувствую огромное облегчение.
(...)
Тем временем, когда поблизости нет танков, мы вместе с местными жителями строим баррикады. В крайнем случае, я буду хвастаться в будущем, как я их строил под немецким обстрелом. На улицу летят стулья, столы, кровати, кресла, листы жести, картины, портреты Гитлера и даже перины. На языке военных это называется прикрытие. Старшие, особенно те, кто служил в царской армии, утверждают, что пуля, которая пробивает даже толстое дерево, запутается в перьях и не пролетит насквозь. Растут также настоящие баррикады из тротуарных плит, булыжников и мешков с песком. Как правило, опасности нет, раз слышны выстрелы слева, и мы прячемся по правой стороне баррикады, а через четверть часа наоборот. И так этот день тянется, и, наконец, наступает вторая ночь Восстания. Дождь прекратился, но звезд не видно, и серо-красные тучи висят над заводом. Я спустился в подвалы Хабурбуша и, как большинство, улегся на пол.

Баррикада на варшавской улице.
Одним из элементов является портрет генерального губернатора Ганса Франка
(Фот. Эугениуш Локайски, из книги Владислава Евсевицкого "Варшавское Восстание 1944 в объективе польской камеры",
Издательство Interpress, Варшава, 1989 г.)
(...)
Зося со шрамом на шее перевязала мне натертые ноги, это первая перевязка в ее повстанческой карьере санитарки. Она также достала для меня толстые шерстяные носки. Большой шрам на шее – это след от осколка бомбы с сентября 1939 года. Я странно себя чувствовал, когда она обмывала мне ступни. Я знал, что она считает меня настоящим солдатом, а потертости на ногах настоящей раной.
Сильный взрыв сотряс здание, с потолка посыпалась штукатурка. Кто-то объяснил, что это "тигр" выстрелил. Если снаряд имеет такую силу, подумал я, что сотрясает подвалы большого здания, то что будет, если против нас бросят двадцать "тигров". Не могу вспомнить, что происходило потом той ночью. Помню только, что когда я вышел из подвалов и стоял на улице с гранатой в руке, из-за туч уже показались звезды, а небо начало сереть на востоке. Не знаю, дал ли мне кто-то эту немецкую гранату на длинной ручке, похожую на колотушку для мяса, или же я сам ее нашел.

Зофия Бочар, "Кос"
(...)
Одиннадцатилетний мальчик в большом шлеме со свастикой пристал ко мне.
- Пан! Пан! Я пану покажу, где немцы, они хотят сдаться, пойдем со мной.
Видимо, он искал кого-то вооруженного и заметил меня. Сомневаюсь, что кого-то другого ему удалось бы так легко уговорить. Он знал окрестности и вел меня главным образом по дворам и тылам домов, пока мы не оказались возле кинотеатра "Фавн". По дороге, к моему огромному удовлетворению и разочарованию, я нашел немецкий шлем. Слишком маленький, но я и так надел его, а точнее водрузил на макушку. Уши торчали из-под стальной пластины, а шлем качался и соскальзывал на бегу. Я вынужден был рукой придерживать его. Из кинотеатра, лежа на животе, через маленькое окошко на первом этаже мы оглядывали окретности. Перед нами на другой стороне Желязной, на перкрестке с Хлодной, стояло современное здание – рядом ворота, бункер и опоры. Так это и есть та знаменитая Nordwache, о которой я столько слышал за два дня. Светало, тишина … ни следа человека, ни живого, ни мертвого. Вся улица завалена осколками кирпичей, черепицы, штукатуркой, стеклом, обломками железа, а все это покрыто серой пылью, которая в слабом утреннем свете придавала предметам мягкие округлые очертания, без контрастов, без теней. Было в этом что-то, напоминающее инопланетный пейзаж.
Посередине Желязной, в паре десятков шагов от бункера, стояла повозка для перевозки мебели, нагруженная мешками с сахаром. Неподалеку еще одна. Четыре лошади спокойно жевали корм. По другой стороне перекрестка находился дом Зоммера, откуда еще недавно стреляли немцы, прорываясь из Nordwache.
Ситуация явно изменилась с тех пор, как мальчик был здесь ночью в последний раз. Дом казался вымершим – как все вокруг. Конечно, у немцев, если они еще прятались там, не было причин стрелять по пустой улице. Осматривая окрестности, мыслью я неустанно возвращался к шлемам, маленькому на моей голове и большому на голове мальчика. Я предложил обмен. Мальчик сначала не согласился, хотя шлем съезжал ему на глаза и качался при каждом шаге. В его понимании большой шлем имел такое же преимущество перед маленьким, как парабеллум перед дамским револьвером. Угроза помогла довести сделку до конца. После обмена шлемы сидели как влитые.
Мы быстро пробежали перед домом Зоммера и вдоль стены доходного дома, слыша только слабое эхо собственных шагов и скрежет стекла. Мы вбежали в арку. Это здесь! Я сжимал гранату в кулаке. На конце рукоятки находился металлический колпачок. Мне казалось, что, чтобы снять гранату с предохранителя, достаточно его открутить. Я не знал, что под колпачком есть стеклянная бусинка на шнурке, которую надо было сначала потянуть, а только потом бросать. Мы осторожно продвигались вглубь арки.
В противоположном конце двора стояли десять немцев с опущенным вниз оружием, несколько без шапок. Мы смотрели друг на друга. Уже рассвело до такой степени, что даже на дне "колодца" варшавского двора видна была серая зелень мундиров и выбритые лица. Я не знал, что делать дальше. Закричать Hände hoch? – это не имело смысла, а по-немецки я знал немногим больше. Впрочем, они не проявляли враждебных намерений.
Сцена как в сказке: немцы это жестокие рыцари, которых кто-то заколдовал, и так, как стояли, они застыли навеки в неподвижности. Если я крикну Hände hoch!, волшебство рассеется, они очнутся, расхохочутся и выстрелят в меня. Я слегка согнул колено, готовясь прыгнуть назад. Тогда солдат медленно пошел ко мне, неся на плече что-то вроде пулемета, а в руке металлическую коробку. Он остановился возле меня, вручил мне пулемет с большим плоским диском, объясняя что-то словами и жестами. Он открыл коробку – внутри были пулеметные ленты. Я легонько кивал и несколько раз сказал:
- Ja, ja...
Немец говорил медленно, отчетливо, так что я мог повторить слова, но все равно ничего не понимал. В конце концов, он отошел в противоположный угол двора, а мы выскочили на улицу.
Новость, что немцы капитулируют, должна была уже дойти до подвалов. Не доверяя глухой тишине, более отважные штатские начали собираться в воротах, но еще не выходили на тротуар. Мы же шли посередине мостовой, оба в шлемах, опоясанные пулеметными лентами, я с огромным пулеметом на плече. Видя нас, таких уверенных в себе, жители начали выходить на улицу. Вскоре нас окружила толпа. Люди, счастливые и взволнованные, угощали нас сигаретами, которые мы прятали в карманы. Я только раз в жизни затянулся, и мне стало нехорошо. Моему напарнику тоже видимо не хватило отваги, чтобы закурить, особенно в присутствии стольких взрослых. Кто-то прибежал с фотоаппаратом, я одолжил мальчику гранату, чтобы сфотографироваться.
Жители приняли нас за тех, которые в трехдневном бою разгромили немцев. Факт, что мы мало говорили, свидетельствовал сам за себя. Стоя возле меня, в первый раз с начала оккупации, они чувствовали себя в безопасности на варшавской улице, не имея понятия, что я не умею стрелять и даже не знаю, как снять с предохранителя гранату. Настоящих повстанцев, тех, которые сражались, нигде не было видно. Минуя штатских, которые во все большем количестве появлялись на улице, мы двигались к заводу, ожидая столь же восторженного приема.
Наш пулемет был самым внушительным оружием, которое я до сих пор видел в польских руках. Пули, большие, гораздо толще обычных винтовочных и пистолетных, были калибра 11,4. Шутили, что если такая попадет в голову, то мозг из ушей полезет. На глазах толпы невооруженных повстанцев мы промаршировали по заводскому двору на склад, где находилось командование роты. "Лис" с удовольствием осмотрел оружие и сдержанно похвалил. Это не было типичное снаряжение немецкой или польской армии, поэтому пулемет отнесли к оружейнику. Тогда я узнал, что это был американский томпсон.
 Окрестности "Nordwache" |
 Группа солдат батальона "Хробры I" перед захваченным бункером, защищавшим подступы к "Nordwache" |
(...)
Я сел и стал ждать. Разные подпоручики, подхорунжие, сержанты, связные вбегали, разговаривали и выбегали. Появился также подпоручик "Сук", тот в синей кепке, с бледным, полным, веснушчатым лицом. Он сходу отчитал меня и велел убираться. В первый раз я проявил строптивость, сказал ему о томпсоне и что жду поручика "Лиса", который в это время вышел.
- Получите другое оружие, - обещал "Сук" и велел мне идти к моему взводу, поскольку квартира командира роты это не место для бродяг.
Я не послушался. Другие подпоручики, подхорунжие, сержанты, взводные, капралы также цеплялись ко мне, но я отделывался от них, рассказывая о томпсоне и говоря, что жду "Лиса". Так прошел час или два, прежде чем "Лис" вернулся. Входя, он должен был увидеть меня, но отнесся ко мне как к пустому месту. Я немного подождал, потом подошел, щелкнул каблуками и вытянулся по стойке "смирно". Едва я начал:
- Пан поручик, старший стрелок "Шаг" докладывает..., - а "Лис" мне:
- А вы что тут крутитесь, - говорит, - шагом марш в свой взвод. На это я сдавленным голосом:
- Пан поручик, а где мой пулемет?
- Пулемет уже на передовой, и он не ваш. Это собственность Армии Крайовой. Не морочьте мне голову ерундой.
Он отвернулся и, разговаривая с другим офицером, вышел. Я иначе представлял себе кавалера креста Виртути Милитари. Так меня ограбили и разоружили в первый раз. Я слонялся по заводскому двору, снова один из нескольких сотен безоружных, подавленный, с ощущением личного поражения.

Миколай Дунин-Марцинкевич "Лис", командир Ударной Группы "Лис"
(...)
Граната за поясом это единственное, что дает мне статус вооруженного солдата, поэтому я берегу ее как зеницу ока. До тех пор, пока она у меня есть, я представляю определенную боевую ценность и огневую мощь. Если я брошу ее в немцев, снова стану болельщиком.
Среди солдат проходящего мимо взвода автор узнает своего школьного товарища, Эдека. Он присоединяется к этому взводу, входящему в состав роты "Верного", которым командует "Кобуз". Автор получает казенную винтовку. Первый раз он занимает боевой пост, который охраняет пивоваренный завод со стороны улицы Товаровой, где идут бои.
(...)
На минуту я вошел в дом. Возвращаясь, застал оживление на баррикаде. "Голубятник" (немецкий снайпер) выстрелил в повстанца, который спал на носилках, пуля попала в стену сантмметрах в двадцати от его головы. Осколки кирпича и штукатурки полетели ему в лицо. Действительно, есть дыра в стене, я тоже трогаю ее, забывая, что "голубятник" может выстрелить еще раз. Мы оглядываем окрестные дома и размышляем, откуда прилетела пуля. В расчет можно брать три дома. Вокруг в темноте видны очертания примерно ста окон. Каждый понимает, что шансов найти "голубятника" нет, но что-то надо сделать, раз уж он выстрелил.
Группами, по несколько человек, мы идем на охоту. Я иду вместе с "Галкой". Втроем мы поднимаемся по лестнице на чердак, пальцы на спусковых крючках. Конечно, никого нет и темно, хоть глаз выколи. Не знаю почему, но тогда повсеместно считали, что "голубятники" стреляли с чердаков. Никому не пришло бы в голову искать их, например, на первом этаже. Раз его нет на чердаке, то возможно, что он скрывается среди местных жителей. Поэтому мы спускаемся в подвал, где ночуют жильцы. Мы зовем сторожа дома, спрашиваем, не приходил ли кто сверху в течение последнего получаса. Не приходил.
- Есть здесь фольксдойчи, немцы, украинцы?
- Нет, - говорит он.
Среди жильцов оживление, все глаза направлены на нас. Первый раз в жизни я как на сцене. Сначала мне немного не по себе, но уверенности придает уважение и некоторая доля боязливости в поведении жильцов, а также убеждение, что мне к лицу шлем и винтовка. Наша миссия подходит к концу. Тогда мне приходит в голову спросить у сторожа, есть ли среди жильцов чужаки, те, кто не живет в этом доме. Есть и даже много. "Галка" со ступеньки подвальной лестницы, с прикладом винтовки под мышкой и дулом, направленным в сторону людей, обращается к ним языком Веха (Стефан Вехецки, псевдоним "Вех" – польский прозаик, сатирик и публицист, использовавший в творчестве варшавский говор). При свете керосиновых ламп и свечей его губы кажутся еще толще, нос шире, а уши более лопоухими. Он начал медленно, постепенно разошелся и вещает, что мы, повстанцы, сражаемся, проливаем кровь, а они тут прячут "голубятников". Мне стыдно за него, и я стараюсь сгладить плохое впечатление.
Я проверяю документы пришлых. Женщина лет пятидесяти, парень двадцати двух лет, блондин, упитанный – подают мне удостоверение с места работы. Фамилия обоих Миллер. Мать и сын. Прошу, чтобы показали мне кенкарту (Kennkarte – удостоверение личности в период немецкой оккупации), нет, забыли, выходя из дома.
- Где живете?
- На Повислье, - отвечают.
Это значит в нескольких километрах отсюда. Говорят по-польски, словно родились здесь. Я думаю: поляк побоялся бы выйти на улицу без кенкарты. В лучшем случае немцы набили бы ему морду и надавали пинков. Наверняка фольксдойчи, выбросили свои кенкарты.
- Покажите продовольственные карточки, - говорю я. Нет, оставили дома. Я уже направил на них дуло винтовки и говорю: - Вы фольксдойчи, - а они ни бэ, ни мэ, как парализованные.
Так мы выловили шесть человек. Выводим их на улицу, уже светает. Я знаю, что ни один из них в нас не стрелял, но никто из нас этого не говорит. Мы ставим их на пустой площадке возле торцевой стены без окон, лицом к стене. Я с минуту размышляю, что бы такое эффектное сказать моему блондину.
- Пять лет ты ел польское масло, теперь будешь грызть польскую землю.
А он ничего. Я передернул затвор винтовки для понта, чтобы сильнее напугать его. Патрон и так в стволе на случай, если бы он убегал. До сих пор я никому не угрожал смертью и чувствую гордость, что сходу придумал такую красивую фразу.
Меня охватывает любопытство и возбуждение, как это – убить человека. Всадить ему пулю в спину или в затылок. Я думаю, что так не годится. Еще никогда я не стрелял из винтовки и боюсь, что если плохо приложу ее к плечу, то отдача может выбить мне зубы. Где-то на границе сознания появляется страх, что если я его застрелю, то случится что-то такое, чего я никогда в жизни не исправлю. Я кричу людям у стены:
- Руки выше, - они поднимают руки выше.
- Встать на цыпочки, - они поднимаются на цыпочки.
Меня удивляет и возбуждает то, что они выполняют мои приказы, хотя они страше меня. Тем временем "Галка" разошелся, хочет пристрелить всех на месте, как диверсантов, и готовится стрелять. Я ему не позволяю, другие поддерживают меня, и после короткого спора "Галка" уступает. Дискуссия ведется за спинами тех, что стоят лицом к стене. По приказу они неловко делают поворот налево. Они впереди с поднятыми руками, мы сзади, идем по пустой улице к Хабербушу. Подкованные сапоги скрежещут по булыжникам так, что эхо раздается. Наши жандармы (которые уже прицепили себе желтые нашивки по примеру довоенных канареек (насмешливое прозвище довоенной военной жандармерии из-за цвета околышей) приняли арестованных с распростертыми объятиями и сразу же заперли в гараже. Они маялись от безделья, поскольку количество их росло со дня на день, быстрее, чем прибывало арестованных. Они единственные не рвались добровольцами в бой.

Владислав Висьневски "Галка"
(...)
Было еще очень рано, когда с запада донесся отдаленный грохот и неясное ворчание, которые с тех пор не прекращались. Тени домов съеживались, и улицу залил солнечный свет. Рельсы блестели как лезвие ножа, сверкали осколки стекла, воздух дрожал над раскаленной мостовой. Изредка штатский пробегал вдоль стены. Я вертелся, прислушивался, и так проходило время.
Во время вылазки с товарищами на Волю автор добывает обмундирование немецкого летчика, военные сапоги и немного боеприпасов к пистолету.
Я выглядел как настоящий солдат, такой, каких не было у Хабербуша. Все на мне немецкое, от сапог до шлема, сидит как влитое. На воротнике голубого мундира оранжевая нашивка, а на ней три серебряные летящие птицы – наверно, это взводный противовоздушной обороны, потому что у летчиков были желтые. Мне не хватало только ремня, такого с надписью "Gott mit uns". Я уже видел себя окруженным толпой восхищенных штатских и скрывающих удивление бывших товарищей по несчастью с того перио
да, когда я слонялся по двору пивоваренного завода.
Автор вынужден вернуться в роту "Лиса". Он надеется, что это временно, поэтому оставляет товарищам шлем, боеприпасы и пистолет. Поскольку он снова безоружен, то пытается в очередной раз – безуспешно – получить у поручика "Лиса" добытый им пулемет. В конце концов он получает назначение в другой отряд (поручика "Тадика"), а также очередную казенную винтовку. Его назначают на передовую позицию со стороны района Воля, где идут ожесточенные бои. Оттуда двинулись на борьбу с Восстанием немецкие вспомогательные силы, высланные Гиммлером...
Уже миновал полдень, когда появились беженцы, поодиночке, группками, без вещей. Они шли оттуда, откуда уже много часов доносились отзвуки боя. Молчаливые, не останавливаясь, они бежали на восток, в глубь города. Они повторяли только одно – немцы всех убивают. Они производили невероятное впечатление, особенно глаза: такие одурманенные лица иногда бывают у людей, спасенных из огня.
Внутри Фонда Сташица тени метались во все стороны, уже никто не выглядывал из окна, как раньше. Я как раз снова начал размышлять, не заскочить ли туда, теперь уже по службе, чтобы разведать, что происходит, когда внезапно серая пыль взвилась в воздух, заслоняя часть баррикады. Словно ком серой ваты внезапно повис неподвижно в воздухе и медленно развеялся. Осколки камней сыпались в переулке и, подскакивая, катились по мостовой.
Я прочитал много описаний боев и в годы войны расспрашивал бывших солдат, как выглядит вблизи взрыв снаряда. Лопаются ли барабанные перепонки, сбивает ли с ног взрывная волна, перехватывает ли дыхание? Теперь я увидел это сам.
Сначала я хотел выстрелить и уже прицелился; в тот же момент я подумал, что не имеет смысла посылать винтовочную пулю сбоку в баррикаду, когда спереди в нее стреляет пушка. Поэтому я помчался к баррикаде, но через пару десятков шагов пришел в себя и вовремя, потому что немцы добавили еще дважды. Что будет, если пехота ворвется на баррикаду? Стрелять и бежать за подкреплением или бежать сразу?
Внезапно сзади какой-то повстанец начал орать на меня как одержимый, что я выгляжу как немец, что он уже прицелился мне в спину, прежде чем увидел бело-красную повязку, и что только его хладнокровие спасло мне жизнь. Он был немного возбужден и тоже не знал, что делать, кроме того, что хотел стрелять. Вскоре кто-то пришел, возможно, это был сам поручик "Тадик", и снял наши посты. Так закончилась оборона западной части улицы Товаровой.

Трупы жителей Воли, убитых немцами.
В течение нескольких дней немцы вырезали около 40 тысяч мирных жителей (мужчин, женщин и детей)
(фот.: Станислав Копф, "Дни Восстания", Издательский Институт PAX, Варшава, 1984)
Вместе с товарищами автор занимает очередную позицию, наблюдая, как стена огня и дыма со стороны Воли двигается в их направлении. Они попадают под обстрел танков. Немцы так близко, что слышны отдаваемые ими команды. Повстанцы отступают вглубь польских позиций.
(...)
За баррикадой сборище. Штатские вперемешку с повстанцами оглядываются во всех направлениях. Меня, единственного, у кого есть винтовка, сразу окружают несколько мужчин старше меня по возрасту, которые, чтобы облегчить мне работу, высматривали немцев. Это сводилось к тому, что они раз за разом видели немца, а я нет. Тот советовал, как держать винтовку, чтобы не было отдачи; этот предлагал выстрелить вместо меня, когда меня в очередной раз подвело зрение. Я начал нервничать и потеть не столько от страха, сколько от стыда, что мои советчики больше знают о войне, более решительны, чем я, и уже смекнули, что я не умею стрелять. Хуже того, я узнал нескольких повстанцев, моих товарищей по сборам на заводском дворе, а среди них капрала "Юра", коллегу по конспирации. Много лет спустя я видел подобную сцену на арене в Мексике. Неопытный матадор не мог добить шатающегося, тяжело дышащего быка, и оба стояли, меряя друг друга взглядом. Толпа мужчин ворвалась на арену, окружила матадора полукругом и начала подзадоривать его.
Давление общественного мнения на меня достигло критической точки, когда немца заметили в одиноком окне где-то высоко в торцевой стене, на расстоянии метров ста. Я поддался давлению из опасения, что у меня заберут винтовку или пожалуются.
- Не бойся, пан, прижми приклад к плечу.
Сердце у меня колотилось от страха, что я держу винтовку слишком слабо, что будет отдача. Вот была бы потеха, если бы я свалился после выстрела на землю, выплевывая зубы! Я целился в пустое окно, то мушка была слева от окна, то прорезь справа от мушки или наоборот. Когда я прижимал приклад к плечу, дуло шло вверх. Я потянул за спусковой крючок.
- Хорошо, хорошо, пан попал как раз возле рамы, - засыпали меня комплиментами, - шкоп спрятался.
Я открываю затвор, заело, пытаюсь раз и второй – гильза не выскакивает. Я вынимаю затвор, мужчины осматривают его, показывают мне, что отломан зубец выбрасывателя. Гильзу из дула вообще не удалось вынуть, и винтовка испортилась после первого выстрела. Умники объясняют мне, почему сломался зубец.
С испорченной винтовкой автор идет к оружейнику. Из винтовки можно стрелять, но при этом надо выполнять сложную процедуру, как мушкетер в XVII веке. Порча винтовки оказалась полезной для автора, потому что вскоре после его ухода в баррикаду попал снаряд из гранатомета, раня штатских и повстанцев. На какое-то время автора отсылают на Старе Място, бывшее тогда в глубоком тылу. Через некоторое время автора снова отправляют на Волю с несколькими незнакомыми повстанцами.
(...)
Нас шестеро в темной квартире, окна которой выходят на улицу Хлодную, залитую лунным светом и блеском пожаров. Справа видна та самая баррикада, где после полудня я испортил винтовку. Слева, на расстоянии 200 метров, возле Фонда Сташица, должна быть баррикада поперек Вольской, теперь невидимая среди темноты и дыма. Оттуда из темноты в любой момент может начаться наступление. Я узнаю стрелка "Малого" по голосу и высокому росту. Раз за разом кто-то осторожно выглядывает на улицу. Вся жизнь концентрируется возле окон. Мы разговариваем вполголоса. Постепенно я ориентируюсь, что никто не командует.
Вскоре два танка направляются к нам с Керцеляка, слышен шум моторов, все громче. "Малый" изобретает новое противотанковое оружие. По его команде мы кричим:
- Урааа, урааа, урааа!... – и танки, рассыпая искры, отступают к Керцеляку. Первое в моей жизни столкновение с танковыми войсками закончилось победой. С этого мгновения голос "Малого" становится важнее остальных. Снаряды рвутся на перекрестке за нами и на баррикаде. Клубы пыли, через которые не просвечивается ни зеленоватый свет луны, ни красные отблески огня, поднимаются в виде огромных соцветий цветной капусты, вздуваются, растут, клубятся и сливаются в одну тучу. Я передвигаю шкаф к окну, чтобы осколки не полетели в комнату, если снаряд попадет в раму. Первый раз в жизни я расставляю мебель, как мне хочется, не спрашивая разрешения. Снова слышен шум моторов. Они подъезжают, стреляют из пулеметов. Под руководством "Малого" мы кричим хором "ураа, ураа", и танки снова отступают. Мы радуемся как школьники, которым удалось провести учителя.
Кто-то, возможно, удивится, что вместо польского мы кричали русское "урра". Польское "hurra" слишком отдавало харцерством, "урра" звучало более грозно и наверняка напоминало немцам восточный фронт. Кроме того, польское "hurra" произносить труднее, чем русское "урра", а уж тем более прокричать.
Снаряды снова рвутся на прекрестке, и пыль заслоняет баррикаду. Черные силуэты появляются слева по другой стороне улицы. Я стреляю, вынимаю затвор, всовываю прут в дуло, выбиваю гильзу, вкладываю затвор, запираю. Силуэтов уже нет, а пулеметы палят без остановки. Из-за испорченной винтовки кто-то прозвал меня "Мушкетером". Всем это сразу понравилось, и раз за разом кто-нибудь кричит: - "Мушкетер", туда, "Мушкетер", сюда, "Мушкетер" прав. По голосу я слышу, что они улыбаются.
Я бегу на чердак поискать позицию, откуда можно было бы видеть всю улицу. Обхожу мрачные, освещенные блеском огня квартиры, заглядывая почти в каждый закоулок, не боясь, что товарищи уйдут без меня. Никогда никому я не верил так, как этим нескольким незнакомым мне ребятам. Все двери открыты, ни живой души. Слышу только сухой треск выстрелов и стук собственных подкованных сапог. Нахожу в боковой стене окно, выходящее на запад, прямо на немцев. Хорошее место для позиции пулемета. Отсюда наверняка удалось бы рассмотреть очертания Форта Сташица, если бы не дым. Я сбегаю вниз. В темноте с трудом можно различить отдельные силуэты. Мы только тени и голоса, но понимаем друг друга, словно всегда были знакомы или родились под одной звездой. Никто не приказывает. Предлагаешь, и если предложение имеет смысл, все выполняют. Когда я крикнул "придвинуть шкаф к окну", несколько человек сразу побежали на помощь. Мы как островок жизни, ночью, в пустом доме, на горящей улице. Уже не помню, кто был со мной, вероятно, я никогда их раньше не знал и, кроме "Малого", возможно, позже никогда в жизни не встретил. Если кто жив, то все, что он помнит обо мне, это то, что одного из шестерых называли "Мушкетером".
Выглядывать уже нельзя. Я различаю знакомый звук – скрежет пуль, скользящих вдоль нашей стены, и немедленно делюсь этим наблюдением с остальными. Немцы должны были заметить вспышки выстрелов. Лучше сменить позицию.
Танки снова медленно подъезжают, а мы применяем наше испытанное "Wunderwaffe" (чудо-оружие).
- Урааа!, ураааа! – и, как можно было ожидать, танки останавливаются. Я иду в уборную. Дверь сама захлопывается за мной, а когда я выскакиваю наружу, то вижу, что все плюются, фыркают и вытирают лица.
- "Мушкетер", на позицию!
Черные силуэты появляются слева. Я стреляю, отступаю в глубину комнаты, вынимаю затвор, всовываю прут в дуло, выбиваю гильзу, вкладываю затвор, запираю. Другие стреляют из окон. Пулеметы палят, кажется, в нас. Огромное волнение, двое немцев лежат наискось по другой стороне улицы. Я всматриваюсь, но ничего не вижу. Ребята показывают пальцами, объясняют где, я с трудом увидел одного. Я уже ничего не говорю, чтобы кто-нибудь мне не посоветовал: "Мушкетер", сними очки". Немец лежит у подножия двух столбиков, кажется, на нем горит мундир. Над убитым дом в огне. Чем дольше я смотрю, тем меньше лежащий напоминает человека. А может, это только тряпки тлеют. Я бегу за помощью к Хабербушу.

Юзеф Голембёвски "Малый" из Ударной Группы "Лис"
По дороге на завод автор встречает вооруженную роту. Он объясняет трудную ситуацию на обороняемой позиции. Получает новую винтовку и перед фронтом роты ему присваивают звание капрала. Ситуация на Воле осложняется: часть отрядов отступает на Старе Място. Немецкие отряды прорываются далеко в глубь города по оси запад-восток. На Воле в районе кладбищ, ожесточенно обороняется группировка "Радослав", что дает командованию время организовать оборону Старого Мяста. Тем временем автор еще раз присоединяется к товарищам из отряда "Верного".
После ночного сна, сразу же после завтрака, устроили сбор всего батальона в саду Красиньских – кажется, будет выступление из Варшавы. Среди деревьев, повернувшись в сторону школы, мы строимся поротно: "Клим", "Сук", "Эдвард", "Лис" ...
У стены школы установлен временный алтарь. Сначала полевая месса – без знамен, без оркестра, без мундиров, почти без оружия.
Полевая месса перед битвой! Конечно, битвы не будет, мы удираем. Так для чего этот цирк? Офицеры всегда с ксендзами рука об руку, внушают, что Бог на нашей стороне. Мы тратим время, а немцы нас окружают. Я злюсь и нервничаю, но молчу. Во время мессы я встаю на колени и поднимаюсь, как все. Исподлобья я присматриваюсь к остальным, относятся ли они к этому серьезно. Священник благословляет и дает absolutio in articulo mortis (отпущение грехов в час смерти), разве мы в самом деле идем на смерть?
Столько раз я читал описание подобной сцены. Рыцари и кони в броне, лес копий - на холмах возле деревни Грюнвальд. Восход солнца освещает лезвия штыков и кос на поле под Мацейовицами. Лес, ночь, луна, повстанцы 1863 года с двустволками стоят на коленях в снегу.
Меня пробирает дрожь. Вокруг сосредоточенные лица. Чтобы восстановить душевное равновесие, я начинаю философствовать ... Не все вернутся домой, я оглядываюсь по сторонам, может тот, может этот, отгадываю, который ... Каждый думает, что кто-то другой...
После мессы мы ждем выступления из города, но нас ожидает сюрприз. Экскурсия на немецкие склады на Ставках.

Фотография полевой мессы, описанной автором.
На первом плане ксендз капеллан Хенрик Цибульски "Чеслав" дает благословение In articulo mortis.
На этих складах на Ставках, захваченных отрядами группировки "Радослав", хранились, кроме продовольствия, огромные запасы немецкого полевого обмундирования защитных цветов - "пантерок". С тех пор все защитники Старого Мяста, которое в это время было окружено, будут носить одинаковое обмундирование. Капрал "Шаг" также одевает "пантерку". Это уже третий слой надетой на нем одежды. Одиннадцатый день Восстания. Отряды "Радослава" с боями отступают с Воли на Старе Място. Отряд "Верного" участвует в атаке на Ставки, чтобы поддержать отряды "Радослава" во время отступления.
Появился капитан "Камень". По его приказу мы пошли вперед за проводником: бегом через улицу, потом через развалины, трамвайное депо. Стрельба усиливается. Мы остановились между стенами без крыши, или скорее перегородками из опилочного бетона. Обычная пуля могла их пробить. В желудке у меня сосет. Я сунул в рот несколько кусочков сахара, потому что слышал, что на олимпиаде марафонцы так подкрепляют силы. С неба струился жар, сквозняка не было. Все тело в густом липком поту. Мы снова двигаемся быстрым шагом. Вскоре перед нами появилось открытое пространство – откос, а внизу зелень огородных участков. Невозможно различить отдельные выстрелы, только гул. Меня мучил страх; я знал, что это плохо кончится. Я ощущал вибрацию воздуха на лице. Ни стены, ни прикрытия, кроме кустов и деревьев. Стоявшие на откосе офицеры показывали направление атаки и поторапливали. Один из них крикнул мне:
- Эй, в очках, быстрей, не бояться!
Я сбежал вниз и упал среди кустов. Через минуту собралась часть группы "Верного". Командовал "Кобуз". Мы вскочили и метров через пятнадцать снова упали на землю. Мы ползем среди яблонь, груш, слив, подсолнухов, помидоров; по картошке, морковке, петрушке, свекле. Когда лежа я поднимаю голову, мой шлем Luft-HilfsDienst съезжает мне на глаза, и я должен раз за разом поправлять его. Там и сям стоят кирпичные будки владельцев участков. Я стараюсь перебегать от одной к другой. "Дядюшка" ругает нас, что мы выдаем направление атаки, велит бежать зигзагом. Не знаю, что он имеет в виду. Ведь немцы и так знают, что мы бежим на них. Его крик придает мне отваги. Я страшно потею под шерстяным мундиром летчика и водонепроницаемой пантеркой.
К тому же рюкзак, набитый шмотками, а в нем бутылка коньяка. Внутри у меня все горит и царапает. Язык прилипает к нёбу, сахар из-за отсутствия слюны едва растаял, густой сироп стекает в горло, я давлюсь – ни сглотнуть, ни выплюнуть – лучше бы у меня была вода вместо водки. Мешает сидолювка (граната подпольного производства). Пот заливает очки, стекает в глаза. Я постоянно вынужден вытирать лоб и брови, поправлять шлем, иначе плохо вижу. Шлем LHD хорош для пожарных, он спускается на плечи, но для того, чтобы ползти, он не подходит. О стрельбе по немцам и речи нет, потому что неизвестно, где они, а через заросли ничего не видно. Мы оглядываемся на откос, с которого спустились, и бежим в противоположном направлении зигзагом. В конце концов, и откос скрывается за листвой. "Дядюшка" и "Кобуз" вскакивают первыми, следят, чтобы мы двтгались цепью и не потерялись в чаще, но группа и так уменьшается. Нет Эдека. Видимость слабая, на несколько шагов. Вся территория разделена на маленькие овощные делянки, окруженные кустами крыжовника, смородины, малины. Множество низких фруктовых деревьев и подсолнухов. Я успокаиваюсь все больше, это даже начинает мне нравиться. До сих пор, кроме шума, никакого вреда никому не причинили. Мы уже не вскакиваем с земли, только ползем. Казалось бы, что это стреляют не в нас, если бы не то, что иногда падает груша, сыплются сливы, что-то шелестит в кроне дерева, и зеленый лист падает, кружась в воздухе. Высокие подпорки для помидоров выскакивают из земли. Кто-то, лежа на спине, пытался дотянуться до яблок; едва ему удалось сбить первое прикладом, как остальные посыпались сами. Маленькие облачка дыма расцветают на высоте нескольких метров, далеко за нами. В защитных мундирах мы должны быть невидимы.
Ползком мы добрались до окраины огородных участков. Перед нами поросшая травой долинка, разорванная проволочная сетка и на возвышении три здания: белое, красное и розовое. Сорок метров открытого пространства. Прижавшись к земле, мы высматриваем немцев. Теперь, готовясь к атаке, я заметил отсутствие сидолювки - видимо, она потерялась, когда я полз через кусты. "Кобуз" вскочил, пробежал уже треть расстояния и не упал. Видя это, мы тоже поднимаемся и мчимся за ним. Через минуту мы вбегаем между зданиями. Слева, в конце путей, уже повстанцы. Они прибежали за минуту до нас. На перроне стоит скорострельное двадцатимиллиметровое орудие, направленное в сторону огородных участков, а рядом огромная куча стреляных золотисто-медных гильз. Я положил одну на память в левый карман пантерки, не подозревая, что это был один из самых важных поступков в моей жизни.
 Станислав Петрас, "Кобуз" |
 Мечислав Калиновски, "Верный" |
(...)
Сначала на Старом Мясте спокойно. Отряды батальона "Хробры" получают квартиру в прочном железобетонном здании, которое называется Пассаж Симмонса. Это позиция на западном участке обороны Старого Мяста.
Пассаж Симмонса стал чем-то вроде невольничьего рынка. Днем и ночью постоянно кто-то забегал, требуя сколько-то людей в помощь. Уже не кричали, как на заводе Хабербуша... "двое толковых парней", и тут же сбегалась толпа добровольцев. Брали десять, двадцать, тридцать, и проводники отводили нас на фронт, то есть на передовую, как тогда говорили. Нас убеждали, что там, где другие подводят, мы должны подпирать небосклон, как наполеоновская старая гвардия. Закончился также регулярный сон.
После возвращения с акции мы валились на матрасы, а поскольку неизвестно было, когда нас снова поднимут, не стоило раздеваться, к тому же случались кражи. Сначала мы перестали мыться, кроме нескольких чистюль. Мы меняли только белье, выбрасывая грязное. Вот что значит жить на широкую ногу! Потом закончились ежедневные смены белья, не было времени и желания получать довольствие со складов, одновременно преодолевая сопротивление охраны. Чтобы улучшить вентиляцию, я ослабил тесемки блузы на шее и расстегивал обе ширинки, когда никто не видел. Носки, не столько пропотевшие, сколько протершиеся, я выбрасывал и надевал свежие, пока не закончился запас в рюкзаке. Именно тогда я надел последние две пары, предвидя близкий конец Восстания и не отдавая себе отчета, что оборона Старого Мяста еще не началась как следует, а Восстание вообще едва началось.

Солдаты батальона "Хробры I" в саду Красиньских перед битвой за Старе Място
(...)
Начинаются бои с немцами, наступающими на Старе Място со стороны гетто. Автор принимает участие в одной из контратак.
Услышав, что хорошо вооруженный отряд, название которого "Зоська" я пару раз слышал, остановился рядом, на Налевках, в доме под №4, я пошел посмотреть, кто они такие. Повстанцы стояли на лестничной клетке, держась не натянуто и не слишком свободно, в меру грязные, скорее серые, чем запачкавшиеся. Я сразу ощутил бьющую от них силу, которую еще больше подчеркивала заметная на лицах усталость. Говорили они немного. Внезапно я увидел Басю, в пантерке, как все. Я сразу понял, что оранжевые отвороты Люфтваффе поверх блузы пантерки, офицерский пояс и рюкзак с мехом производят такое же впечатление, как перо, заткнутое за чехол шлема. Разговор не клеился и совсем замер, когда я словно случайно показал свекольного цвета повязку с надписью GS LIS (Grupy Szturmowe LIS – Ударные Группы Лис). Меня поразило сознание, что они знают о войне что-то, чего я еще не понимаю.
Однажды в развалинах Щецина, спустя месяц после войны, оборванный и осунувшийся немецкий солдат попросил у меня огонька. Это были такие времена, когда у немцев не было спичек, а у поляков были немецкие. Не высокий, не блондин и не юнец, но как он стоял, как прикурил и отдал спички, каким незаметным, но четким жестом поблагодарил! Есть что-то, что позволяет узнать настоящих солдат. Есть какая-то гармония в их движениях, а может это просто некое спокойствие тех, что пережили смерть, никогда ей не поддаваясь. Словно все, что лишнее, сгорело в них навсегда.

Солдаты батальона "Зоська"
(...)
Битва за Старе Място продолжается. В результате усиливающегося обстрела нельзя уже ходить по улицам. Капрал "Шаг" принимает участие в нескольких ночных атаках против немцев.
Однажды утром на свой страх и риск я пошел в обход польских позиций, к соседям справа. Эдек часто это делает. Уже точно не помню, почему я пошел с визитом. Может, чувствовал, что игра в карты не соответствует духу времени, а может, хотел увидеть популярных ребят из "Парасоля", досадить им немного и проверить, сравняются ли они с нами. Я планировал посетить также другие отряды для удовлетворения собственного любопытсва, а также чтобы произвести впечатление на товарищей от "Верного" знанием воинских проблем из первоисточника. Ребят из "Парасоля" мы считали ловкачами, которые первыми будут знать, куда и когда удирать. Духовным предводителем и образцом для меня был Эдек, который постоянно приносил с контактного пункта разведки АК и из законспирированной коммунистической ячейки новости, не всегда хорошие и не всегда парвдивые, но зато интересные.
Я вышел через большое окно нашей спальни на тылы Пустого Зала, а оттуда по приставной лестнице вниз за Пассаж, дворами до Длугой и на площадь Красиньских. Проще, но не безопаснее было бы выйти из Пассажа через ворота на улицу Выязд.
Конечный отрезок Длугой между Выяздом и Пшеяздом имел форму удлиненного прямоугольника, законченного массивным шестиэтажным домом. Слева стояли дома разной высоты, справа – плоский Арсенал, а за ним низкие домики или же развалины, которые не защищали от обстрела. Времена наступили такие, что лучше было не крутиться на открытом пространстве. Опасны были не только гранатометы и артиллерия – люди постоянно гибли от так называемых шальных пуль. За Арсеналом возвышалась, частично затянутая дымом, башня костела: стройная, высокая, светло-серая, словно сплетенная из стальных рельсов, чем-то напоминающая косу, чем-то рыбу-пилу. Мы слишком поздно начали подозревать, что она имеет отношение к шальным пулям.
Над входом во дворец Красиньских висел раскрытый черный зонт, эмблема расквартированного здесь отряда. Он был наиболее известным, если уже не знаменитым на Старом Мясте, и по этой причине его согласно критиковали националисты и интернационалисты от "Верного". "Парасоль" обвиняли главным образом в саморекламе и замаскированной трусости. Когда мы в полной экипировке с цветными платками на шее крутились на площади, нас не раз спрашивали, из "Парасоля" ли мы. Это все равно, что словака назвать чехом. Когда нас вели в контратаку, мы не раз острили – ого, видимо "Парасоль" снова ушел. Само название, которое легко было запомнить, напоминало о временах, когда дождь был одной из житейских проблем. В Польше зонт в руках мужчины был признаком изнеженности и холостячества. Поручик, ходивший с зонтом, не мог стать капитаном, разве что его тестем был генерал. Видимо, поляки как-то не заметили, что англичане построили империю, не расставаясь с зонтом и калошами.
Первый раз в жизни я вошел во дворец без разрешения, без экскурсовода, в подкованных сапогах. Однажды я уже был здесь в одиннадцать лет, со всем классом, под присмотром учителя. Нам не позволяли ничего трогать и, как везде в музеях, велели надеть мягкие фланелевые лапти на обувь, чтобы не испачкать и не поцарапать пол. В бальном зале на первом этаже несколько ребят из "Парасоля" сидели на старинных креслах на некотором расстоянии от окон, поглядывая в сад. Большие зеркала в трещинах, статуи богинь и богов из белого мрамора изрешечены, плафоны осыпались, штукатурка хрустела под ногами. Говорят о величии смерти человека. В то время я ощутил величие конца цивилизации. Приход гостя из другого батальона не вызвал удивления. Мы начали с взаимных расспросов о ситуации на наших участках, потом перешли к советам, и в конце я выразил сожаление, что им не удалось удержать Ставки и захватить Гданьский вокзал. На это мне ответили, что и они, и другие отряды были на вокзале, но там нечего удерживать или занимать – только пути и пара бараков, которые не дают прикрытия. Поражало их отсутствие энтузиазма и словно бы усталость. У меня сразу возникло подозрение, что они критикую Восстание, а на самом деле им это очень нравится.
Сразу же налево, на краю парка, возе самой стены стояли скамейки, где неделю назад, сидя с "Байкопом", я поднял с земли горячую винтовочную пулю. Она по-прежнему была у меня в кармане, и я не преминул показать ее. Поодаль, напротив окна, лежал на траве сгоревший остов ситроена, еще недавно сверкавшего черным лаком.
У них столько боеприпасов - сказал один из ребят с горечью - они ведь знают, что никто не сидит в автомобиле на нейтральной полосе, а все равно время от времени пускают очередь.
Действительно, в сгоревшем автомобиле было множество дыр. Как голодный не понимает, что сытый ест для удовольствия, так и мы не могли понять, зачем немцы всадили в него столько пуль. Немцы расходовали невероятное количество боеприпасов. Сначала это пугало, потом мы считали такую расточительность признаком трусости, потом наступило ожесточение, а в конце отупение и отчаяние.
Тропинки вились среди деревьев и кустов, залитых лучами солнца. Во время немецкой оккупации видимо никто за садом не ухаживал, он зарастал сорняками и травой. Кажется, впервые с незапамятных времен парк князей Красиньских был пуст, несмотря на жару. Зато по его периметру несколько сотен человек в шлемах, шапках, сапогах, шерстяных носках всматривались в зелень, истекая потом и вздрагивая от каждого движения ветки и шелеста листвы.
Я пришел, готовясь вызвать их на ссору, высматривая случай подразнить этих лоялистов и пропагандистов, а закончил на сдержанно-положительной ноте.
Я отказался от посещения других участков. Игра в харцерство, как говорил видимо уже мертвый веснушчатый подпоручик "Кенар", закончилась. Ситуация ухудшилась до такой степени, что каждый день казался предпоследним.

Солдаты "Парасоля"
(...)
Неприятель также перестал массово использовать гражданское население для прикрытия таков и пехоты. Это прикрытие должно было позволить немцам подойти на небольшое расстояние к нашим позициям без потерь. Повстанцы, вооруженные в значительной степени револьверами, и так стреляли только с очень близкого расстояния. Когда доходило до перестрелки, прикрытие разбегалось, разве что было хорошо связано. Немцы, стреляя по убегающим штатским, подставлялись под пули повстанцев, если стреляли в повстанцев – мирные жители убегали безнаказанно, если стреляли в тех и других – рассеивали огонь. Когда немцы перестали использовать "живые щиты", это приписывалось также вмешательству наших западных союзников. Однако я помню, как кто-то утверждал, что немцы не гонят людей перед танками, потому что кости застревают в траках гусениц, и танки не могут поворачивать.
Повстанцы защищают Арсенал. Баррикада соединяет Арсенал и квартиры батальона в Пассаже Симмонса. На баррикаде находится орудие, захваченное во время атаки на Ставки.

Сад Красиньских и повстанцы из батальона "Хробры I" с трофейным орудием
Около пяти часов дня без артподготовки из Белого Дома выбежали на Налевки немцы, слева на наш правый фланг в сад Красиньских. Я стоял, оперев дуло о амбразуру, когда внезапно передо мной появились темные фигуры. Прежде чем я нажал на спусковой крючок, они были уже на мостовой. Добежали до сетки. Я стреляю, досылаю патрон, а когда прицеливаюсь снова, несколько неподвижных тел уже лежат на пустой улице. Это артиллеристы не дали захватить себя врасплох и врезали по немцам из пушки.
Появился поручик "Сук" с двумя повстанцами и, видя, что один немец встает, прицелился в него. Кто-то из его солдат подбил ствол винтовки вверх: - Пан поручик, поляк не добивает раненых! Немец, шатаясь, повернул к Белому Дому.

Обсуждение боевой ситуации в квартире командира роты в Пассаже
Вид трупов пробуждал во мне склонность к философствованию на тему смерти. Притворяясь глубокомысленным, я находил банальности, которые постеснялся бы произносить вслух. Например: сколько мог бы погибший сделать в жизни; от скольких страданий он теперь избавлен; мы никогда не встретимся после войны; он даже не знает, что уже мертв. Смерть молодого челдовека также захватывает врасплох, как вид пары новеньких, прямо с колодки, офицерских сапог, стоящих на краю большака.
Несмотря на канонаду вокруг, поражало спокойствие природы, которое подчеркивалось неподвижностью фигур. Я отметил в памяти место, где лежали убитые жандармы: в паре десятков шагов от ворот сада Красиньских в нашу сторону, между двумя щербинами в фундаменте ограждения. Я старался угадать, что немцы делают в эту минуту ... наверно, то же, что и я – всматриваются в погибших. У каждого есть воспоминания, которые время не изглаживает. Для меня одно из таких воспоминаний это пустой, покрытый пылью перекресток, зелень по обеим сторонам, рыжая полоса развалин вдали, разбросанные тела в косых солнечных лучах и радость победы.
(...)
Конечно, как каждый, я заботился о своем здоровье, но вид пуль, щиплющих стену поодаль, не вызывал ужаса и ассоциаций вроде dulce et decorum est pro patria mori; даже редко мешал еде. В последнее время я перестал бояться наперед – например, что в меня могут выстрелить через пять минут. Я испытывал страх только тогда, когда в меня стреляли, не раньше и не позже.
(...)
Что видели немцы, глядя на нас из гетто? Кроме массивной баррикады, соединяющей Пассаж с Арсеналом, бросалось в глаза прикрытие при входе с Налевок под аркаду. Сделанное из тротуарных плит, с симметричными амбразурами, оно выглядело как театральная декорация. Прикрытие выдержало бы удар снаряда маленького калибра, но 88-миллиметровка, которыми обычно были вооружены "тигры", и штурмовые орудия разрушили бы его одним выстрелом. Немцам явно не пришло в голову, чтобы кто-нибудь в здравом уме прятался за плитами, поэтому они засыпали снарядами только баррикаду, угол Пассажа и Пустой Дом. Принимая нас за зрелых солдат, хоть и бандитов, они воевали согласно правилам военного искусства, о которых мы даже не слышали. Если бы они выстрелили в прикрытие из плит или выше, под дугой аркады, нас бы надо было, как говорят, ложкой со стен соскребать.
 Пожары над западной частью города, видимые со стороны Арсенала На первом плане стена бывшего гетто. |
 Баррикада на улице Налевки, между Пассажем Симмонса и Арсналом |
(...)
Позиции в Арсенале обстреливают немецкие орудия и танки. Автор принимает участие в опасной ночной вылазке на позиции немцев в "Белом Доме", находящемся перед воротами сада Красиньских. За отвагу его представляют к Кресту Отважных, однако формально он никогда этой награды не получит. Немцы озлобились на баррикаду, которую, в конце концов, взрывают с помощью "голиафа"- маленького, удаленно управляемого гусеничного механического средства, начиненного взрывчатым материалом. Один из "голиафов" взрывается в тот момент, когда автор находится на баррикаде. От мощного взрыва он теряет сознание и получает контузию уха. Контузия эта останется до конца Восстания. Его товарищ Эдек ранен. В это время Старе Място разрушено так, как Сталинград. Немцы захватили Арсенал, и от позиций повстанцев их отделяли только 10-30 метров.
Линия обороны проходит теперь в Пассаже Симмонса. Внезапно немцы врываются внутрь Пассажа, отрезая там группу повстанцев, в том числе автора. Ситуация критическая, но удается организовать контратаку. Во время контратаки немецкий пулемет яростно стреляет в прячущегося за развалинами автора. Как позже выяснилось, жизнь ему спасла орудийная гильза, подобранная на Ставках, погасившая скорость вывстреленной пули, которая теперь находилась внутри гильзы, звеня как погремушка. В тот же день автора ждет еще одно приключение...
Внезапно подпоручик "Мариан" велел мне взять одного из семнадцатилетних связных, "Мушку", и мчаться галопом к воротам дома № 44/46; по другой стороне Длугой должны были быть немцы. По дороге я вложил в винтовку истекающий маслом затвор. Едва мы добежали до ворот, к счастью запертых на железную решетку со стороны улицы, над крышей завыл штукас. Говорили, что немцы бросали бомбы с взрывателем замедленного действия, вроде бы на 16 секунд. Я размышлял, выскочить ли во двор. Мелькнула мысль, что "Мариан" выбрал меня, зная, что я не подведу. Впрочем, я не слышал удара бомбы о крышу и перекрытия. В арке нас было видно с улицы, поэтому я уже хотел отступить, когда заметил трещину вдоль свода, которая начала постепенно, как при замедленной съемке, вспучиваться. Я дернул "Мушку", мы еще успели отскочить на три шага задом ко входу на лестничную клетку, прежде чем наступила полная темнота.
Не знаю, что меня больше душило, страх или пыль. Размытые звуки, грохот, шорох, шум, а потом тишина. Я приоткрыл веки. Было еще темно, но быстро прояснялось – от черноты через оттенки рыжего к полному дневному свету. "Мушка" стоял рядом. Нас словно бы выбросило из внутренностей пылесоса. Мы засмеялись ненатуральным смехом. Я вытер лицо, откашлялся, сплюнул и высморкался. Всю арку завалило, кроме узкой полосы, которая позволяла протиснуться к решетке со стороны улицы. Прохода назад во двор к нашим не было. Зато лестничная клетка уцелела, достаточно было войти на антресоль и спрыгнуть.
- Подождем минуту, - сказал я "Мушке", - прилетит второй, если мы сейчас выйдем, то попадем под следующую бомбу, а два раза в то же место он бросать не будет.
Не только боевой опыт подсказал мне это решение. Я хотел, чтобы товарищи поволновались, сочли нас погибшими, а тогда мы возникнем из-под развалин, как из гроба. Я не отряхнул мундир, чтобы он выглядел "лучше". "Мушка", если бы даже не прислушался к моему авторитету, как подчиненный должен был слушаться приказа. Я был прав, следующий штукас уже снижался.
Не знаю, как это описать кому-то, кто никогда не лежал под бомбами или под огнем артиллерии. Это как у стоматолога – сидишь на кресле, сжимаешь руками подлокотники, кричать неудобно, бежать поздно. А у тебя в коренном зубе огромная дыра, и где-то в каком-то месте обнаженный нерв. Стоматолог сверлит не такой современной машиной – триста тысяч оборотов в минуту с охлаждающей струей воды, а старой педальной машиной. Молишься, чтобы он не задел нерв, все тело напрягается, обливаешься потом. Стоматолог перестает сверлить, думаешь, что он уже закончил, а он только поправляет педаль.
Штукас спикировал прямо на нас. Я закрыл глаза и почувствовал взрывную волну. Мы схватились за руки, и нас снова окружила ночь. Я задыхался, бросил винтовку, закрыл лицо руками и так дышал сквозь пальцы. Что-то бренчало, позванивало, сыпалось. Когда все утихло, я знал, что стою, что никто меня не откопает, и никого я больше не увижу, и что эта темнота останется навсегда.
Я постепенно открывал глаза; было так черно, что я даже не был уверен, открыл ли я их вообще. Я не двигался, чтобы не провалиться в какую-нибудь дыру. Пощупав вокруг, я коснулся "Мушки". Начало проясняться. Перекрытие рухнуло на лестницу перед нами, а справа взрыв пробил брешь в стене. День едва начался, а я уже "воскресал" второй раз. Мы осторожно карабкались по развалинам, проверяя сначала ногой, выдержат ли они тяжесть тела. Прыгая по блокам разрушенной стены, мы вышли во двор. "Кобуз" уже собрал бригаду для откапывания. Сомневаюсь, что они много смогли бы сделать, особенно под огнем гранатометов.
Обрадованные товарищи рассказывали, что штукасы пикировали над самой крышей. Они не думали, что мы выжили, в последний раз они видели нас, когда рушилась стена. "Мушка" вел себя, словно ничего не произошло, неторопливо отряхивая лицо и мундир, хотя до сих пор это был самый трудный день в его повстанческой карьере.
Вот описание одного дня отдыха, когда отряд автора отвели с передовой.
Отряд останавливается в маленьком домике на Фрета 13. Дома здесь по сравнению с Пассажем напоминают домики из карт. Последний час на Старувке. Завтра мы будем смотреть на битву с чердаков Жолибожа, послезавтра из Кампиноской Пущи. Мы лежим в маленьком дворике. Когда не надо стоять, мы сразу ложимся и закрываем глаза. Здесь так безопасно, что даже вид звездного неба не лишает сна. Я не знаю, что немецкие гранатометы стоят в неполных трехстах метрах на Вислостраде. Зато от Пассажа мы отошли на три четверти километра и кажется, что от немцев нас отделяет бескрайнее море домов, и каждый дом – это крепость.
Несмотря на непрерывное высмеивание братских отрядов, я никогда не смог отделаться от мысли, что возможно солдаты там лучше наших. Иногда, а особенно теперь, это подбадривает меня. Я не знаю, могу ли считать себя отважным человеком. Уже не одна опасная ситуация убедила меня в моей отваге, когда неожиданно какая-то мелочь меня пугала и угнетала, и я начинал сомневаться. А вдруг я только притворяюсь? Тогда я думаю – все заключается только в притворстве. Это игра, большая игра. Есть те, кто верит, что я не притворяюсь. Я сам бдительно наблюдаю за теми неустрашимыми и беспокоюсь, не притворяются ли и они. Я не верю, чтобы человеку было все равно, что его жизнь может закончиться. Что будет, если мы разгадаем друг друга? Те, которые не должны прикидываться, наверно сделаны из другого теста.
"Влад"?... "Лис"?... "Вилит"?... "Вилит", когда в нас стреляют, вместо того, чтобы бояться, злится, подбородок выдвигается вперед, он сжимает зубы, готов кусать – ни следа страха.
Капрал "Юр"?... вежливый сдержанный, корректный, немногословный службист. Без приказа под пули не лезет, но страха не видно, даже когда бежит. Может, он солдат по призванию, который затерялся в мирной жизни, а теперь находит себя? Когда я думаю о "Юре", мне вспоминается рассказ о том крестьянине, который советовал сыну перед поездкой в школу в Кракове: "Вперед не лезь, сзади не оставайся, а середины ты держаться не должен".
Зато "Кобуз" это штатский, переодетый солдатом, я вижу его за письменным столом, сортирующим бумаги. Даже когда он дает нагоняй, делает это взволнованным, но тихим голосом, словно кричит шепотом. Иногда он гнется, но не ломается. Откуда он берет эту силу, которая позволяет ему перебегать от позиции к позиции между взрывами, когда другие прячутся.
Зося "Кос" и Ванда "Еврейка" в атаку бегут вместе с нами, без оружия. В ночных вылазках ползут во главе колонны. Под гранатометами бегают много раз в день из Пассажа с рапортами к командованию. Что же они чувствуют? Не боятся? Может, верят, что со смертью не все заканчивается.
Линия фронта, проходящая через Пассаж Симмонса, продержалась до конца боев на Старом Мясте, то есть до начала сентября 1944 года.
(...)
Все делается с опасностью для жизни. Конечно, сражаешься с опасностью для жизни, бежишь тоже с опасностью для жизни. Стоишь под открытым небом с опасностью для жизни и прячешься в подвале с опасностью для жизни. Выходишь на лестничную клетку по нужде с опасностью для жизни. Живешь с опасностью для жизни.
(...)
Когда я услышал от "Кобуза", что он представил меня к награде, стремление получить Крест Отважных приобрело у меня настолько самоубийственные размеры, что я едва не закончил посмертным награждением или не награждением. Только встреча с "голиафом" привела меня в чувство.
То же происходило и с остальными. Никто уже не стыдился торопливо покинуть позиции, на которые направлен ствол орудия. Тогда мы сообщаем соседям, если время позволяет, и прячемся в другом, как правило, заранее намеченном уголке.
За последние две недели война вырвала из наших хвостов почти все павлиньи перья. Трудно узнать самого себя. Пантерки утратили прекрасные цвета березовой рощи поздней весной, а моя, цвета золотой польской осени, напоминает прошлогоднюю листву. Лица потемнели, почернели, щеки ввалились. Цветные платки спрятаны в рюкзаки.
(...)
Раненые интересуются, где воюет Вермахт, а где полиция и СС – тема, которая нас мало интересует; мы не сдаемся, потому что и так конец. Что бы я ни сказал, чтобы их подбодрить, ничто не может изменить факта, что нас разделяет стеклянная стена. Для них единственная надежда – это капитуляция Германии или немедленный приход русских. Они не могут рассчитывать на то, что их раны заживут, прежде чем войдут немцы. Мы, здоровые, можем полагаться на свои ноги.
В Пассаже мы несколько изолированы, зато можно узнать новости из первоисточника от раненых, которых приносят со всех участков Старувки. Среди ужасных есть также утешительные новости, но они меняются каждый час, что еще больше подрывает наш боевой дух. Раненым, не имеющим никакого влияния на свою судьбу, остается только поглядывать на часы и высчитывать, сколько времени осталось до вечера. С утра артиллерия озлобилась на башню Гарнизонного костела рядом, поэтому, чтобы убить время и успокоить нервы, они считают взрывы.
Я смотрю на лежащего в углу коморки немецкого солдата, австрийца. Вроде бы он такой же, как мы, но другой. Мы, поляки, живем словно под вечным гнетом первородного греха и постоянно должны страдать, а его каждый считает своим. Каждый хотел бы быть австрийцем в такое время. Наши с ним вежливы, не только потому, что он австриец и может спасти раненых, когда придут его товарищи – для поляка важно, чтобы иностранцы хорошо о нем говорили.

Останки раненых повстанцев, сожженных немцами живьем
на Старом Мясте (Архив Старых Актов)
(фот.: Станислав Копф, "Дни Восстания", Издательский Институт PAX, Варшава, 1984)
(...)
О наступлении дня – как обычно – вместо птичек сообщают снайперы. Полумрак еще таится в углах, впадинах, щелях, в глубине окон, и легко увидеть силуэт человека там, где его нет. Присоединяются автоматы, пулеметы, скорострельные орудия, потом отзываются более крупные калибры и уже не умолкают. Невозможно описать всю эту стрельбу, которая днем сливается в непрерывный гул или рев. То, что улавливает ухо, трудно с чем-нибудь сравнить. Возможно, подобные ощущения можно испытать, стоя между отвесной стеной и водопадом, когда тонны воды пролетают над головой. Или если оказаться в огромной пещере с тысячей пишущих машин, где каждая секретарша печает одну страницу в минуту. Почти ежедневно бывает момент тишины, может четверть секунды, настолько поразительный, словно водопад внезапно перестал падать и повис в воздухе, или все секретарши внезапно подняли руки с клавиатуры. В следующую секунду кажется, что все одновременно нажали на спусковые крючки. (...)
Я уже давно достиг той стадии, когда предпочитаю стрельбу тишине, которая обманывает. Хороший солдат на слух определяет, что происходит, так же, как туземец в джунглях, не открывая глаз, угадает, кто, где и к кому подбирается. (...)
Два дня ничего не происходит на нашем отрезке между Пассажем и Длугой. Не то, чтобы фронт замер, скорее замерз. И мы, и немцы так вгрызлись в развалины и пристрелялись, что захватить врасплох никого невозможно. Ни у них днем, ни у нас в ночной атаке нет шансов. Еще неделю назад можно было подползти Налевками к Белому Домику, теперь территория так сократилась, что нейтральной полосы почти нет. Прежде чем какой-нибудь смельчак пробежал бы эти полтора десятка шагов до Пустого Дома или Арсенала, перед ним выросла бы преграда из пуль, как колючая проволока – столько у немцев автоматического оружия. Немцы наверно думают также, и поэтому пехота перестала атаковать.
(...)
Рабочая неделя солдата Старого Мяста это 168 часов, без малого 700 пятнадцатиминуток, а сколько минут! А когда в меня стреляли из пулемета, то не только минуты, но и секунды тянулись немилосердно. Неделю назад я был еще ребенком в сравнении с мужчиной, которым являюсь теперь. (...)
Поэтому я все время размышляю над другими способами спасения. Например, переодевшись в штатское ... я отбрасываю эту мысль, с оружием я не расстанусь, впрочем, мужчин наверняка расстреляют. Пробраться одному через линию фронта в последнюю ночь? Один я не решусь, но с Эдеком бы рискнул. В конце концов, мне приходит в голову идея получше, я укроюсь в каком-нибудь разрушенном доме, в щели между блоками стены, где никто не рискнет искать. Много раз я воображаю себе такую картину: повстанцев уже нет. Ночь, тишина. Я один, прячусь в щели. Начинает сочиться дневной свет. Внезапно знакомый крик:
(...)
Обычно мне давали в напарники кого-то менее опытного или просто молокососа из бывшей роты "Лиса". С другими кажется было так же, хотя "Цыган" и "Петрек" часто стояли вместе. В трудные минуты я хотел быть рядом с "Вилитом", "Добровольцем", "Малым", "Яблоньским". Позже я заметил, что во время опасности некоторые повстанцы льнули и ко мне. (...)
Внезапно в сумерках меня пугает мысль, что немцы хотят нас убить, и что они так близко. Я умру, думал я, умру, умру... и это слово не покидало меня ни на минуту, и чем дольше оно вращалось в моем сознании, тем меньше я его понимал. Я смотрел на лица товарищей, высматривая признаки тревоги. Не сбегут ли они? Я боялся уснуть, в полудреме то и дело открывал глаза, чтобы проверить, здесь ли они. Но повстанцы как обычно бродили между машинами. "Вилит" достал бутылку коньяка и обходил всех от "Верного", наливая каждому изрядный глоток в стакан. (...)
В последнее время у нас спокойнее. Правда, боеприпасы к пиатам закончились, но осталось еще немного бензина. Танкам задали перцу, они не въезжают в зону броска литровой бутылкой. Война превратилась в позиционную и, чтобы описать то, что происходит, надо все время повторяться. Легче было описывать битвы в давние времена, и читателю приятней было читать: гренадеры в голубых панталонах и белых подтяжках на красных куртках поднимают на штыки канониров, одетых в черное, гусар в желтых киверах с плюмажами, бегут от уланов в оранжевых панталонах... и т.д.
(фот.: Станислав Копф, "Дни Восстания", Издательский Институт PAX, Варшава, 1984)
(...)
Куда ни посмотришь (часто подобные обороты встречаются в поэтических описаниях побоищ), трубы грустно торчат в небо, балконы жалко свисают, глазницы окон смотрят угрюмо, провалы в стенах щерят зубы, жесть стонуще скрипит... Сад Красиньских с каждым днем старится на неделю. Листья пожелтели, порыжели, опадают, и странно выглядит этот лесок в цветах поздней осени, когда жар струится с неба.
(...)
Самый загадочный из офицеров это "Влад".
(...)
Сопоставление рапортов с мировых фронтов и с участков Старого Мяста, иногда запоздалых, иногда преждевременных, выглядит примерно так:
(фот. слева: Станислав Копф, "Дни Восстания", Издательский Институт PAX, Варшава, 1984, (...)
"Влада" несли на одеяле. Мы медленно спускались в подвалы. К нам все время присоединялись новые люди. "Влада" положили возле выхода в сад, у подножия лестницы, где начинался ход сообщения. Повстанцы все время подходили, окружили его полукругом. Те, что его несли, его люди, встали на колени. Тех, что стояли дальше, едва можно было различить в темноте. (...)
Десятки раз я смотрел отсюда на Пассаж. Всегда неизменный, непоколебимый как скала, возвышался он над окрестностями. Теперь Пассаж выглядел, как выпотрошенный великан и казался еще выше.
(...)
Невнятные стоны время от времени доходили снизу. Я подумал о мыле. Если бы у меня его не украли, я умылся бы раньше, успел в зал станков под бомбы и лежал бы теперь в темноте под развалинами вместе с ними. Внезапно, кажется, в первый раз, я осознал, что в нескольких метрах ниже лежат "Вилит", "Петрек", "Горец", "Ясё", которому я доверил мою винтовку и золото, "Мариан", Зося со шрамом на шее, "Байкоп", "Доброволец", "Дядюшка", "Манюсь", Ванда "Еврейка"...
(...)
Тогда от Арсенала зычный голос закричал в мегафон:
(...)
Автор присоединяется к группке раненых, которая получает разрешение войти в каналы и пройти этим путем в Средместье.
(...)
Раздался приказ: в каналы! Мы двигались медленно, потому что надо было ползти за прикрытием из рюкзаков. Я боялся, что артиллерия откроет огонь, или танки в последнюю минуту въедут на площадь, или штукасы нас заметят. Однко больше всего я боялся отмены приказа. Наконец я спустил ноги в темноту и холод.
(...)
Выходили из канала мы дольше, чем входили. Некоторых вытаскивали. Меня удивила ночь и вид стекол в окнах. Возле люка стояли несколько человек, штатских и повстанцев наполовину в штатском, все причесанные, девушки в летних туфельках. Я устыдился своего вида: без оружия, без мундира, как беженец. Я еще не привык к тому, чтобы на меня смотрели с жалостью.
(...)
Я был без оружия и одинок, как и месяц назад. С интересом я глазел на местных повстанцев. Они захватили ПАСТ-у, Комендатуру Полиции, не поддались немцам. Наконец-то кто-то более сильный, чем я, но дружески настроенный. Стоя в холле кинотеатра, я сказал пару слов о канале, о Старувке, но охотней слушал их рассказы о ПАСТ-е, о Комендатуре Полиции. Хотя с тех пор прошло больше недели, они все еще жили этим. Какой-то повстанец показал мне оборонительную гранату, ребристую, с подвижной рукоятью, такую красивую, что жалко было бы ее бросать. Он говорил как сын, который хвастается своими достижениями перед потрепанным жизнью отцом, но не без уважения в голосе. В моем сознании уже закрепилось, что немец всегда возьмет верх над поляком. Я чувствовал себя словно после приземления в дружественной чужой стране. Мы с ее жителями говорим на том же языке, но у нас нет общей истории. Как братья, выросшие отдельно. Один среди волков, другой среди псов. Тот на опавшей хвое, этот на соломе. Может ли тот, кто перед сном снимает сапоги, понять того, который не заснет без сапог?
фот.: Станислав Копф, "Дни Восстания 1944 в объективе польской камеры", (...)
Люди еще не привыкли к виду повстанцев со Старувки, оглядываются, останавливаются. Власти проявили бы больше рассудительности, если бы интернировали нас сразу же после выхода из канала и подвергли принудительной чистке, мытью, бритью, стрижке, а также сну в течение двух суток, вместо того, чтобы портить воздух глупой пропагандой, что все хорошо, а будет еще лучше.
(...)
Все со Старувки говорили громко и вызывающе, особенно если местные их раздражали. По-прежнему неустанный клокот доносился со стороны Старого Мяста. Они еще защищались. Где-то там, в дыму, были Эдек, Ханка, "Галка", "Кобуз", капрал "Юр", "Жасмин", "Баррикада", "Анка", "Куба", "Крипо", "Шофер"... Как хорошо снова быть зрителем
(...)
На Старом Мясте, отдавая честь не по уставу, не нося двух нашивок, я подчеркивал, что являюсь сражающимся штатским, добровольцем и анархистом. Здесь за это время возникла чиновничья иерархия, им не надо было сражаться, поэтому они играли в войну. За этот месяц я натренировал глаз и сразу знал, чего стоит это войско. Большинство этих сержантов, подхорунжих и подпоручиков, заполнявших пустоту между передовой и верховным командованием, отличалось самонадеянностью, маскирующей зависть к славе Старувки. Постоянно было слышно: - Там наверно было довольно тяжело, ну, вам не удалось, а мы тут справляемся. С оружием у них плохо, много отдавания чести и мало опыта. Они считали схватки за Университет тяжелыми боями. Только отряды к западу от Нового Свята хорошо разбирались в военном ремесле, мы много читали о них на Старом Мясте. (...)
(...)
Местные повстанцы отразили наступление патрулей, и боевой дух повысился. День проходит без происшествий. Похоже на прелюдию перед крупным наступлением. Я знал, как это будет через день, через два, через три.
(...)
(...)
(...)
(...)
Имея по соседству "Радослава", я спокойно раздевался до рубашки. Из-за Вислы, где небо черное, без зарева, идет свежий воздух. Меня усыпляет далекий приглушенный шум войны, не громче и не опаснее стрекотания сверчков, кваканья лягушек и отделенного лая собак. С самого утра Эдек ковылял на разведку к товарищам со Старувки. Конечно, днем они не будут пробиваться на юг, но хорошо знать заранее, откуда ветер дует. Я навещаю соседа с двустволкой и после знакомства с местной ситуацией рассказываю ему кое-что о настоящей войне, подчеркивая мой опыт, но не умаляя его собственного. (...)
Встречи с жильцами нашего дома изобилуют неожиданностями. Словно бы очень много времени прошло после нашей последней встречи. Ко мне, прибывшему с мифической Старувки, относятся с уважением. Я, в свою очередь, говорю резче, увереннее, высокомернее. Меня приглашают на бридж, а точнее больше на беседу. Мы садимся на первом этаже возле окна, выходящего во двор. Я узнаю больше деталей из истории этого района. Первого августа польское наступление не удалось. В течение нескольких дней Чернякув был, собственно говоря, нейтральной территорией. Отряды СА с Гурнослёнской сделали пару безуспешных вылазок. Потом наши ударили на них, тоже безуспешно, и постепенно фронт установился вдоль Лазенковской, Розбрат и через газовый завод до Вислы. Выловили немного семей фольксдойчей, которых потом, за исключением мужчин, отпустили на немецкую сторону. В проивоположном случае всех пришлось бы стеречь и кормить. Вероятно, одной из целей освобождения было желание настроить местный немецкий отряд более дружелюбно по отношению к польскому населению. Этот метод так же помог, как мертвому припарки, потому что в наступление шли специальные отряды с других участков, разъяренные недавними потерями. В действительности никто тут о смерти не говорит и, пожалуй, не думает, Пали Воля, Старувка, плохие новости приходят с Повислья, но Чернякув возвышается над волнами, как скала Гибралтара. (...)
Я сам не раз размышлял, каков был мой вклад в победу над Третьим Рейхом. Ведь я не попал ни в одного немца, хотя не мог бы поклясться – в такой суматохе подобные вещи иногда не замечаешь. После долгих размышлений я пришел к выводу, что все сводится главным образом к факту, что я не дал себя убить. Сколько боеприпасов немцы на меня потратили, сколько пуль пролетело мимо, сколько гранат, снарядов, бомб. А бензин для штукасов, нефть для танков, уголь для паровозов, которые привозили в Варшаву снаряжение и запасные части; а ценные магниевые ракеты, которые вспыхивали в небе, когда ночью я спотыкался о кирпичи. Летчики, артиллеристы, автоматчики, железнодорожники, рабочие на оружейных заводах. Сколько времени они все потратили, чтобы меня убить. А сколько русских, англичан, американцев уцелело, потому что все эти пули, снаряды и бомбы не посыпались на них. (...)
До сих пор я смотрел на Восстание и события на фронтах, словно со дня воронки от бомбы. Вернувшись на Чернякув, я смотрю на мир, словно с Олимпа.
(...)
В родном доме разборки. Узнали, что Эдек и Ханка не супруги, так почему они спят вместе. Эдек ответил: (...)
Немцы добрались также до Южного Средместья и ситематически бомбят дом за домом между площадью Трех Крестов и Маршалковской. Генерал "Монтер" пообещал помощь через 4-5 дней. Уже столько раз обещали безрезультатно, а по-прежнему трудно им не верить. Из сообщения следует, что немцы напрягли все силы, чтобы ликвидировать Северное Средместье. До тех пор, пока Средместье сражается, Чернякув отдыхает. Пришли неофициальные новости, что после падения Повислья началась паника, командиры не могли организовать оборону, подняли уцелевших со Старувки, и только они остановили немцев, которые уже переходили Новый Свят. (...)
Эдек ежедневно посещал батальон "Зоська", чтобы узнать новости. Мы по-прежнему подозревали, что перед лицом приближающейся капитуляции Варшавы "Радослав", вместо того, чтобы сложить оружие, прорвется на юге в леса и пойдет в Келецкое воеводство. Кто-то со Старувки подарил мне пятнистый чехол на шлем. Местные повстанцы готовы платить большие деньги за эсэсовские пантерки: блузы, брюки, шапки, что угодно. Чехол я спрятал в карман. Пригодится, если я захочу доказать свою принадлежность к АК. (...)
Канонада была уже такая, как на Старом Мясте (...). (...)
Мы вбежали на самый верхний этажа по нечетной стороне Идзьковского. Выглядело все так же, как вчера вечером, с той только разницей, что вместо стен домов на Саксонской Кемпе низко висящее солнце заливало розовым светом реку. (...)
Мы решили присоединиться к отрядам "Радослава", которые накануне заняли дома на Вилановской и Окронг. (...)
Мы были отрезаны на острове развалин. (...)
Густой, неровный огонь автоматического оружия не прекращается, размытый как все, что я слышу. Или он приближался, или к моим барабанным перепонкам с наступлением тишины возвращалась упругость. Я распознал ручные гранаты. Это могло означать только одно – пехота пошла в наступление. Тогда я отчетливо услышал – кто-то кричал и кричал. Страшное подозрение пришло мне в голову. Я не мог разобрать слов. Я посмотрел на Адамчика – так страшно и трупы не выглядят. Я видел сеточку прожилок на ушах, тонких, белых, пергаментных; посередине лица нос, сухой, острый, он выделялся как белый клюв.
(...)
Ночью под носом немцев автору, в конце концов, удалось ползком добраться до желанного адреса: Окронг 2. В этом здании находились славящиеся мужеством и отвагой повстанцы группировки "Радослав". Вскоре оказалось, что туда добрались также солдаты Берлинга – командира польских войск, сформированных правительством польских коммунистов под контролем Москвы. В этих условиях кажется, что ситуация наладилась – русские, наконец, решили оказать помощь Восстанию. (...)
Часто, когда я оказывался вблизи немцев, мне казалось, что если даже они не услышат моего голоса, биения сердца, то подслушают мои мысли и найдут меня. (...)
Солдатам раздали хлеб, досталось и мне. Я не ел со времени разговора с "Забавой". Потом дали немного саго. Тот, что меня угостил, представился взводным "Туром", командиром местного отряда или чего-то там разрозненного и недоукомплектованного. Он дал мне понять, что мог бы принять меня в свое подразделение, если я на самом деле повстанец. Выслушав пару эпизодов об Арсенале, он очевидно уже не сомневался. Несмотря на это, мне не хотелось ввязываться в ситуацию, в которой кто-то считал бы себя уполномоченным отдавать мне приказы или обвинять в дезертирстве, если я вдруг отлучусь из отряда. Поэтому я дал уклончиво-положительный ответ из-за еды. Больше всего мне бы понравилось, говоря образно, сидеть у костра, обгрызать кости, сплевывать в огонь и давать консультации. Я не намеревался возвращаться к статусу солдата, который проливает кровь, с другой же стороны мне казалось, что уже никогда в жизни я не буду нормальным штатским. (...)
Дом на Окронг 2 выглядел солидным строением и был почти крепостью, поскольку гарнизон состоял из повстанцев батальона "Зоська", которых поддерживали ППШ и противотанковые ружья берлинговцев...
(...)
Какое-то время автор принимает участие в обороне здания Окронг 2. В конце концов, это здание занимают немцы. Автор снова становится беженцем, ищущим возможности переправы через Вислу. (...)
Через развалины вправо, влево, и я вышел на продолговатый двор, где лежало несколько байдарок. Я никогда здесь не был. Справа высокая торцевая стена и приклеенный к ней сгоревший домик, слева гаражи, напротив одноэтажный флигель с воротами в центре, через которые видно было воду. Слишком светло, чтобы выбираться на реку. (...)
Байдарки оказались непригодны для использования. Тем временем большинство отрядов "Радослава" переходит каналами на Мокотув. Главными точками сопротивления становятся несколько зданий, которые еще удерживают повстанцы. Автор находится в одном из них. (...)
Внезапно я увидел "Виса II" (в роте "Лиса" было двое "Висов"; я полагал, что обоих засыпало в Пассаже). Семнадцатилетний парень, тихий, несмелый, маленький. В последнее время на Старувке он ходил с рукой на перевязи. Теперь он спускался по широкой лестнице, легко ступая, уверенный в себе, спокойный, в пантерке, с открытой головой, каштановые волосы рассыпались по вискам, обмотанный пулеметной лентой. (...)
Автор находится теперь на наполовину открытой территории, дающей ничтожную защиту от обстрела. Ночью он строит планы о том, как выбраться с Чернякова. (...)
Нервозность уступила место приливу творческой энергии. У повстанца был пистолет, и он требовал, чтобы и я добыл оружие. Иначе не хотел идти. Мои поиски не принесли результата. Правда я нашел ППШ, еще было светло, когда я запомнил, где он лежал, но, к сожалению, он был поврежден и без патронов. Я не знал, к кому обратиться насчет оружия. Когда я обратился по этому поводу к нескольким повстанцам, они посмотрели на меня как на безумца. На Вилановской в пятом доме, как мне казалось, было больше оружия, чем тех, кто мог и хотел им воспользоваться, здесь ни желающих, ни оружия. Не видно было ни одного организованного отряда.
(...)
Здесь сидели несколько раненых повстанцев и берлинговцев. Крайне редко кто-то из них что-нибудь произносил.
Я сел и свесил ноги в обложенную кирпичом ямку возле подвального окна, чтобы погреться в потоке поднимающегося оттуда сладковатого теплого воздуха. Я всматривался в глубину подвала. Куча кокса тлела, хотя темный слой сверху уже покрылся густой сетью серых прожилок. Голубой огонек то и дело выскакивал на поверхность, трепетал и прятался. Иногда он пробегал по верхнему слою кокса, словно невидимые пальцы перебирали клавиши. Хотя я понимал, что за моей спиной лежит весь мир, то, что происходило в подвале, все больше приковывало мое внимание. Темные стены и потолок образовали раму повернутой ко мне сцены, в центре которой плясали огоньки. Мне пришло в голову, что надо запомнить этот танец; что когда-нибудь я опишу его. Огоньки были воздушные, гибкие, легкие и строптивые. Когда я ожидал, что они затрепещут, они горели ровно. Многие с большим рвением начинали пируэты, кружась поперек сцены, а потом внезапно пропадали, словно их и не было. (...)
Компенсируя неподвижность тела, разум неустанно метался по кругу. Я не чувствовал ненависти к немцам, только страх. А может, все это окажется ужасным недоразумением и как-то выяснится? Я никогда не буду обижаться на немцев, если они заберут меня в Рейх на вечные работы. Я могу копать рвы и окопы до конца жизни, под голубым небом, на солнце, дыша свежим воздухом от рассвета до сумерек, а ночью спать. Если бы меня кто-то спросил, кем бы я хотел стать, где жить, кого увидеть, я не смог бы ответить. (...)
В конце концов, автор решает выйти к немцам вместе с группкой штатских. Этот момент был рассчитан очень точно: немцы еще не начали очередной трудовой день, пока что никто из них не погиб, так что у них наверняка неплохое настроение, и они не расстреляют этих нескольких уцелевших штатских. (...)
Мы шли медленно, чем медленнее, тем безопаснее, по нейтральной территории, как по арене, в лучах поднимающегося из-за реки солнца, на виду четырех армий – Крайовой, Берлинга, русской и немецкой – махая белыми полотенцами, наволочками, пододеяльниками. У некоторых было по одной тряпке в каждой руке. Такого воодушевления я не испытывал с тех пор, как оказался в канале под площадью Красиньских. Освоившись с новой ситуацией, я осматривался, конечно, только глазами. Уже давно сзади осталось начало улицы Вилановской, когда я заметил двух немцев в развалинах слева, лежащих за пулеметом. Они смотрели перед собой и даже не дрогнули, когда мы проходили мимо. Зачем они прячутся, удивился я, не зная, что на Вилановской в домах № 2 и 4 еще были поляки. Сомневаюсь, что кто-то из нашей группки заметил немцев, так все были поглощены энергичным маханием. Первый раз с начала битвы за Старе Място я осмелился идти посередине улицы, к тому же на глазах невидимых немцев, поляков и русских. Я волновался, но не боялся. Я предполагал, что после стольких лет войны немцы уже не так кровожадны, как прежде, что они привыкли, и для них нет никакой разницы, убить или не убить. Зависит от того, когда и как к ним подойти.
Ян Курдвановски
Когда я был на службе между Пассажем и Длугой, вдоль улицы Налевки или на складе плитки, немцы несколько раз врывались в Пассаж со стороны Налевок, но отступали после контратаки. Об этом я узнавал, только возвращаясь в зал станков. Позиция во флигеле изолирована больше, чем кажется на первый взгляд. Правда, отсюда можно увидеть дворы по обеим сторонам, но того, что происходит в Пассаже Симмонса, увидеть нельзя. Видна только его торцевая стена без окон, а развалины заслоняют подход к большому окну. Зато со склада плитки невидимый Пассаж Симмонса кажется отдаленным броненосцем, а его передняя часть на Налевках, где-то далеко, как за семью горами и семью реками.
В течение всей осады Пассажа только дважды я осмелился перейти на другую сторону большого коридора – опасаясь неизвестного. Именно в этом заключается вгрызание в развалины, когда точно известно, где можно находиться, а где нет. Пули крошат кирпичи справа, откалывают штукатурку слева, а ты лежишь себе спокойно посередине, как у Господа Бога за пазухой, пока не появится танк. Часами я стою в воротах флигеля, глядя, как раз за разом дождь обломков или кирпичной крошки засыпает дворы по обе стороны. Иногда меня мутит, и что-то дрожит внутри.

Вид из Пассажа Симмонса на перекресток улиц Длугой и Беляньской,
в глубине дома, занятые немцами. Фотография сделана во время боев.
Действительность поглощает меня целиком, и мне даже в голову не приходит писать дневник для потомства. Даже если бы кто-нибудь мне посоветовал – пиши, я бы и так считал, без учета, который это был день Восстания, что уже поздно, что все, что важно и достойно записи, проходит мимо меня. Писать дневник хотя бы пять минут в день – это пять минут, потерянных для жизни, а может и для спасения жизни. Действительность можно было себе представить в виде узкой как лезвие меча полосы ослепительного света, двигающегося все быстрее и быстрее через территорию абсолютной темноты, выхватывающего на секунду все новые лица, очертания, горизонты, контуры. Как только щеки переставали гореть, и пульс приходил в норму, событие уходило в прошлое, как при новом повороте рулетки, когда предыдущий уже не считается. Чем дольше длилось Восстание, тем труднее было представить себе его конец, хотя почти каждый день казался предпоследним. Столько впечатлений, картин постоянно и под огромным давлением накладывалось друг на друга, что начало расплывалось в отдаленной мгле. Словно это не я, а мой брат-близнец когда-то сражался на Воле.
Войну я не знал даже по фильмам, потому что согласно кодексу поведения польской интеллигенции в течение всей оккупации не ходил в кино. Я не видел ни одного репортажа с фронта, поэтому на Восстание пошел неподготовленным даже зрительно. Я очень изменился со времен Воли, словно перепрыгнул из детского сада в университет. Если бы нам еще раз пришлось сражаться за Хлодную, такие солдаты, какими мы были теперь, остановили бы несколько тех танков и батальон уголовников СС, играя в бридж.
- Rrraus, rrraus, alle raus!
При одной мысли об этом у меня перехватывает дыхание ... Отдаленные взрывы, бросают гранаты в подвалы, чтобы люди быстрее выходили. Топот ног... сухой треск револьверных выстрелов... добивают раненых... крик... невразумительный лай... Автоматные очереди... расстреливают подозрительных... Затихает... шаги, голоса... обыскивают развалины... взрывы гранат... иногда короткая очередь... отдельные выстрелы.

После падения Старого Мяста немцы обыскивают покинутые повстанцами развалины.
(фот.: Станислав Копф, "Дни Восстания", Издательский Институт PAX, Варшава, 1984)
До сих пор я не знаю, боялся ли я меньше других или только хорошо притворялся. Я не мог себе представить, что меня ранят, так же, как некоторые люди не могут представить, что мир будет существовать без них. Несмотря на эту уверенность, я был педантично осторожен.
Я старательно выбирал, где встать, здесь или на полшага дальше; точно планировал, как поставить мебель. Не все повстанцы, даже наиболее освоившиеся с боями, были настолько предусмотрительны. Я вел себя как канатоходец перед выступлением или ответственный и опытный хирург, который не упустит ничего, что может увеличить шансы пациента.
Современная маневренная война правда менее красочна, но о ней тоже интересно читать. Танки давят спирали колючей проволоки, подожженные бензином, бегут, как живые факелы, взлетают в воздух на минах, самолеты падают как горящие кометы и т.д.
Труднее всего читать о позиционной войне. Смерть словно надела шапку-невидимку. Не видно, как она приближается. Видно только, как она наносит удар, и то не всегда.
Раньше страх вызывали отрубленные руки, ноги, головы, оперенная стрела в груди. Теперь убитый человек часто выглядит так же, как при жизни, только что бледный.
Неожиданно воздух взрывается над головой или земля под ногами, словно в войне духов. Как это описать и не наскучить читателю? С одной стороны, нельзя постоянно напоминать ему раз за разом, что пулеметы и автоматы стреляют без перерыва, так же, как в романе о мирном времени излишним было бы постоянное подчеркивание факта, что герой питается четыре раза в день, делает шестнадцать вдохов в минуту и так далее. С другой стороны, как не напоминать? Если бы не пули, это были бы маневры или пикник.
Тот, кто описывает современную войну, сталкивается с той же проблемой, и поэтому авторы выдумывают разнообразные глаголы, чтобы читатель не устал от повторов. В книгах пулеметы, кроме обычной стрельбы, обстреливают, пристреливаются, стреляют часто, кроме того строчат, грохочут, тарахтят, стучат, секут, бьют, косят, лязгают, лают, яростно огрызаются, играют, выстукивают, прошивают пулями, плюют свинцом, поливают так, что не нарадуешься (если наши), застучат внезапно и загремят, когда надо. У прочего оружия тоже есть свои голоса, как у всего, что живет. Снаряд гранатомета падает беззвучно как ястреб. Если ты не стоишь слишком близко, то узнаешь его по шуму в тот момент, когда он ударит. Другой снаряд извещает о своем приближении грохотом, словно какой-то зверь галопирует по небу. Шестиствольная пусковая установка сначала рычит голосом охрипшей коровы шесть раз. Через несколько секунд, если ракеты летят над тобой, можно услышать деликатное чириканье с высокого неба, а в конце бум, бум, бум, бум, бум, БУМ. Словно кто-то хлопнул дверью пять раз, а на шестой захлопнул ее. "Большая Берта" воет неописуемым голосом, напоминая мичуринский гибрид – смесь кареты "скорой помощи" с гиппопотамом. Я никогда не сышал гиппопотама, но глядя, как он разевает рот, чтобы проглотить булку, можно себе представить, какой у него низкий голос. Снаряд "Берты" снижается и затихает на минуту. Если ты неопытен, то подумаешь: не взорвался. Внезапно куски домов и обломки летят в воздух... вокруг свистит, бренчит, хрипит, гудит, словно это не снаряд, а фортепиано упало с неба. Все, что в полете воет и клокочет, меня мало интересует – чем громче, тем меньше, потому что падает на центр Старувки.

Немцы обстреливают из тяжелого оружия Старе Място с территории развалин бывшего гетто

Результат обстрела

Руины Старого Мяста, виден Рынок.
Фот. Виктор Бродзиковски, Варшава 1945-1950 в фотографиях; издательство Бродзиковски, Варшава, 2005
"Влад" не входит ни в одну категорию. С одной стороны, он жизнерадостный, шутит, с каждым поговорит, если время позволяет. Он не повышает голос, двигается энергично. Даже если бы он надел фрак, в нем можно было бы узнать солдата; с другой стороны... поражает его серое, спокойное и даже равнодушное лицо. Он не проявляет страха, напряжения, словно уже раз воскрес и все знал о смерти. Видимо, поэтому ходят слухи, что он пьет эфир. Он бродит, как дух-покровитель Пассажа Симонса. Спокойней спится, когда знаешь, что где-то там высоко бдит "Влад"-снайпер с ястребиным взором. Я сам часто улыбаюсь, когда он останавливается в зале станков, отвечая на дружеские придирки. О хорошем командире говорят, что он отец полка. "Влад" заслужил звание дядюшки или дедушки батальона, невозможно было отгадать его возраст. Он помогал, но не вмешивался.
Один из его шестерки рассказал мне о таком происшествии. Они взбирались на вершину Пассажа. Чем выше, тем больше на четвереньках. "Влад" приблизился к окну и в бинокль осматривал окрестности. Как обычно они ожидали, что это последний взгляд на мир, если не их всех, то его наверняка. "Влад" заметил замаскированный гранатомет и передал бинокль назад. Мой собеседник, не имея выбора, встал возле "Влада" и приложил бинокль к глазам.
- Видишь сукиного сына? – спросил капитан.
- Вижу, вижу. – Руки у него тряслись, он ничего не увидел, но не желая показать "Владу", что боится, простоял с биноклем возле глаз столько, сколько следовало.

капитан пилот Виктор Добжаньски "Влад"
Пятница, 18 августа – американцы заняли Шартр и Орлеан. На Старом Мясте отразили наступление на Польскую Фабрику Ценных Бумаг (ПФЦБ), Всеобщую сберегательную кассу (ВСК), фабрику Quebracho, Кафедральный собор, дворец Мостовских, Ратушу и дворец Бланка. Неприятель захватил костел каноничек.
Суббота – американцы перешли Сену к северу от Парижа. На Старом Мясте отражено наступление на ВСК. Бои идут внутри кафедрального собора. Неприятель прорвался на Беляньскую между дворцом Радзивиллов и Польским Банком, контратака из дворца Радзивиллов отбросила его на Тломацке. Отражено наступление на Ратушу из Театра Оперы и костела каноничек. Неприятель захватил фабрику Quebracho, в контратаке фабрику удалось отбить, за исключением гаражей. Защищается дворец Мостовских.
Воскресенье – русские ударили на Румынию, американцы перешли Сену к югу от Парижа. На Старом Мясте неприятель захватил дворец Радзивиллов и северное крыло Польского Банка. Отражены наступления на улицу Болесть, Ратушу, дворец Бланка, больницу Яна Божьего и ПФЦБ. Покинут дворец Мостовских. Вечером неприятель ворвался в котельную больницы Яна Божьего.
Понедельник – русские прорвали фронт в Румынии. Американцы заняли Версаль и Фонтенбло. На Старом Мясте после взрыва позиции неприятеля отбито северное крыло Польского Банка. Неприятеля вытеснили из дворца Радзивиллов и костела каноничек. В 12 часов через пролом в стене внутрь кафедрального собора ворвался отряд неприятеля с танком. Несмотря на то, что пехота была отброшена, к танку приблизиться не удалось. Вечером неприятель захватил типографию ВСК. Отражены наступления на Ратушу, дворец Бланка и больницу Яна Божьего.
Вторник – русские заняли Яссы. Американцы ликвидировали котел под Фалез. На Старом Мясте неприятель захватил развалины с восточной стороны ПФЦБ. Отражено наступление на Ратушу, костел каноничек.
Среда – французы и американцы прорвались к Парижу, в городе восстание. Переворот в Румынии, Антонеску арестован. На Старом Мясте отражено наступление на больницу Яна Божьего, гаражи Фиата и ПФЦБ.
Четверг – русские заняли Кишинев, американцы – Гренобль. Американцы окружили Париж. В Париже уличные бои. На Старом Мясте отражено наступление на ПФЦБ, заводы Фиата, улицу Болесть, кафедральный собор. Неприятель захватил западную часть больницы Яна Божьего, в контратаке больница освобождена, но неприятель удерживает часовню. Потерян дворец Радзивиллов.
Пятница – англичане заняли Авиньон, немецкая 6-я армия окружена под Кишиневом. Капитуляция немцев в Париже. На Старом Мясте отражено наступление на Ратушу, костел каноничек и ПФЦБ. Отбит дворец Радзивиллов.
Суббота – Болгария объявила о своем нейтралитете. Остатки 6-й армии капитулировали. Крепость Исмаиллы в устье Дуная занята русскими. На Старом Мясте отражено наступление на Польский Банк, Ратушу, дворец Бланка и улицу Болесть. Неприятель захватил дворец Радзивиллов, фабрику Quebracho и центральную часть ПФЦБ. В ночном контрнаступлении неприятеля отбросили из ПФЦБ, занимая первый и второй этажи, неприятель удержал верхние этажи. Вечером отбросили неприятеля, занявшего главный неф Кафедрального собора. Не удалось вытеснить неприятеля, ворвавшегося в больницу Яна Божьего.
Воскресенье – англичане заняли Марсель. Русские заняли Галац в устье Дуная. Американцы перешли Марну. На Старом Мясте утром неприятель занял главный неф Кафедрального собора, в контратаке его оттуда вытеснили. Во второй половине дня неприятель ворвался в Кафедральный собор. Из фабрики Quebracho неприятель атаковал улицу Мостовую. В ПФЦБ отбита часть западного корпуса.
Понедельник – англичане заняли Тулон. На Старом Мясте неприятель захватил развалины Кафедрального собора и ПФЦБ. Отбиты склады фабрики Quebracho. Отражено наступление на заводы Фиата, Ратушу и улицу Мостовую.
Вторник – русские на предместьях Бухареста, американцы заняли Реймс. На Старом Мясте неприятель захватил фасад Ратуши и дворца Бланка, а также костел каноничек. В контратаке удалось отбить часть костела. Отражено наступление на Мостовую.
Среда, 30 августа – русские заняли Плоешти и Бухарест. На Старом Мясте неприятель отброшен из Ратуши и дворца Бланка. Отражено наступление на Мостовую. Наступление неприятеля из ПФЦБ и больницы Яна Божьего на заводы Фиата отбито, однако неприятелю удалось занять склады Фиата.

Бои на Старом Мясте: слева немцы

... справа повстанцы.
фот. справа: Витольд Романьски, из книги "Варшавское Восстание 1944 в объективе польской камеры",
Издательство Interpress, Варшава, 1989 г.)
Пуля попала в лоб, в левую верхнюю часть. След от пули терялся где-то в волосах. Я подал берет. Его надели "Владу" на голову, закрывая рану. Он лежал повернутый к свету, лицо не искаженное, не улыбающееся – расслабленное, равнодушное, серое, покрытое паутинкой мелких морщинок. Тогда один из его людей, псевдоним "Черный", наклонился над "Владом" и страшным голосом закричал:
- Капитан!... почему ты нас оставил? Капитан! Капитан!
Чтобы взять себя в руки, я старался вспомнить, где когда-то читал описание подобной сцены. В горле у меня стоял ком, и чтобы не расплакаться, я изо всех сил сжал дуло винтовки, отвел глаза от "Влада" и посмотрел на повстанцев. Винтовки, револьверы, шлемы, пантерки, бинты. Слезы текли по грязным лицам.
Наступили последние дни августа 1944 года. Восстание длится уже месяц. Поскольку возможности дальнейшей обороны Старого Мяста исчерпаны, командование принимает решение прорываться в Средместье. К сожалению, эта попытка заканчивается неудачей. Отрядам батальона "Хробры I" не удается даже выйти на исходные позиции, поскольку им мешает толпа мирных жителей, стремящихся покинуть Старувку вместе с армией. После этой ночи наступает последний день Пассажа Симмонса. Появляются немецкие самолеты и сбрасывают бомбы на здание, которое рушится, погребая под развалинами более 200 повстанцев батальона. Автор в это время пошел умыться и поэтому избежал смерти. Теперь он находится на грани нервного истощения.

Развалины Пассажа Симмонса, фотография сделана после окончания войны. (фот. Ян Курдвановски)

Послевоенная эксгумация останков солдат батальона "Хробры I"

Ванда Блазуцка, "Еврейка"
- Повстанцы!... Мы восхищаемся вашим героизмом!... Вы сами знаете, что дальнейшая борьба не имеет смысла... Нам жаль ваших жизней... Сдавайтесь!... Выходите в оружием в руках!... К вам будут относиться как к военнопленным, в соответствии с женевской конвенцией!... Повстанцы, мы восхищаемся вашим героизмом!...
Моисей на горе Синай видимо был меньше удивлен, когда услышал глас Божий. Оттуда, где гнездилась смерть, из-под аркады доносилась теперь польская речь. Я почувствовал ком в горле. Я ждал, что повстанцы встанут и пойдут к Арсеналу по залитой солнцем нейтральной полосе. Я испугался. Слова немцев, однако, не произвели никакого впечатления, хотя для меня звучали как призыв к братству.

Развалины Пассажа Симмонса

Збигнев Станкевич, "Байкоп"

Окрестности входа в канал, которым защитники и население Старого Мяста эвакуировались в Средместье
Фот. Веслав Хжановски, из книги "Варшавское Восстание 1944 в объективе польской камеры", Издательство Interpress, Варшава, 1989 г.

Защитники Старого Мяста выходят из канала в Средместье
Фот. Йоахим Йоахимчик, из книги "Варшавское Восстание 1944 в объективе польской камеры", Издательство Interpress, Варшава, 1989 г.

Повстанцы из Средместья, захватившие Комендатуру Полиции

Штурм здания ПАСТ-ы в Средместье
Издательство Interpress Издательский Институт PAX, Варшава 1984
Каждый пункт Средместья был в зоне поражения гранатометов, не говоря уж о тяжелом вооружении, несмотря на это люди ходили, а не крались. Словно существовал уговор или обычай, что бомбы и снаряды падали только на Старувку. Все здесь привыкли к этому положению вещей, словно к закону природы. Они с гордостью говорили о достижениях Средместья, упуская из виду очевидный для нас, со Старувки, факт, что они никогда не испытывали на собственной шкуре всей мощи немецкого наступления.
Старувка по-прежнему сражалась. Это можно было узнать по направлению полета штукасов на север, где небо затягивал дым, и доносящемуся оттуда клокотанию, словно кто-то кипятил смолу на сильном огне.

Грязные и оборванные, но счастливые после выхода со Старувки
(фот: сайт Whatfora)
Случайно автор встречает в Средместье своего друга Эдека в компании Ханки и Витольда, которые тоже перешли каналом со Старого Мяста в Средместье. Теперь они будут держаться вместе.
Свежее утро, голубое небо, вверху шумят самолеты, неопасно, потому что каждый знает, что они летят на кого-то другого. Повстанцы сидят себе спокойно и в безопасности на позициях, как у Господа Бога за пазухой. А тут внезапно с голубого неба раздается пронзительный визг, земля трясется, пыль душит и слепит. Более отважные и рассудительные трясут напуганных, офицеры наводят порядок, снова занимают позиции, сердца колотятся, руки сжимают рукоятки револьверов. А тут штукасы снова пикируют, один за другим. Ошеломленные, запыленные выжившие бродят, сея страх. Несут раненых. У того белые кости торчат из голени как сломанные, ободранные от коры ветки, тот булькает кровавой пеной, а штукасы снижаются в третий раз. Тут и там люди бегут от бомб. На тылы густо падают снаряды гранатометов. Кто-то уже лежит и корчится от боли. Штурмовые орудия и танки открывают огонь, пыль все время закрывает обзор. Вся вселенная дрожит и пульсирует. Отважные и неопытные повстанцы высовываются, чтобы не пропустить пехоту, и им конец. Раздаются крики, тот убит, тот ранен. Некоторые так одурели от грохота и взрывной волны, что некстати вспоминают о женевской конвенции и международном мнении. Внезапно каждый хочет жить дольше других, и конец обороне.
Я объяснил Эдеку опасность положения.
- Третий день, - говорю, - я смотрю на это войско, оно разбежится при первом ударе. Надо перейти в Южное Средместье, там безопаснее, а мы выиграем время, потому что немцы сначала займутся Северным Средместьем, а от верховного командования мы не слишком отдалимся. В конце концов, чтобы избежать всеобщей резни, "Бор" не будет подражать генералу Совиньскому, а сдастся вместе с оставшейся частью АК. Мы же выйдем со штатскими. Впрочем, до тех пор немцы могут капитулировать, потому что американцы и русские идут вперед, не встречая сопротивления.
По знакомству Эднк внес нас в список одного из взводов роты "Рудый". Быстро было принято решение, что вечером мы идем вместе с ними вниз на Чернякув, где должно быть очень спокойно. Перед наступлением сумерек мы присоединяемся к "Рудому". Сборный пункт где-то на пересечении Журавей и площади Трех Крестов. Впервые в жизни у меня есть возможность поговорить с людьми, о которых писали в газетах, с теми, кто прорвался через Саксонский Сад.
В то время, когда "Лис" проталкивался по Иппотечной к Польскому Банку, часть роты "Рудый" перебежала Беляньскую и прорвалась на Сенаторскую. Уже светало, и дальше двигаться было невозможно, поэтому они затаились в подвале сгоревшего дома. Вскоре к ним приблизился отряд немецкой жандармерии, они захватили его врасплох огнем из автоматического оружия и перебили всех. Потом им пришлось сменить место. Бросив дымовые гранаты, они перебежали на другую сторону Сенаторской в костел святого Антония, место постоя эсэсовцев. Из костела они перебрались в подвалы Библиотеки Замойских. Днем подъехала немецкая жандармерия и поочередно зачищала сгоревшие дома, бросая внутрь гранаты. Наши собрались в коридоре, который шел посередине подвала. Они договорились, что если граната упадет в коридор, то тот, кто стоит ближе, схватит ее и бросит в пустой чулан. Наблюдатель сообщал, что происходило снаружи. Сначала они надеялись, что немцы обойдут их дом. Но ничего подобного, они двигались систематически, окружали каждую развалину отдельно с оружием наизготовку и бросали гранату. Наблюдатель доложил, что они стоят возле соседнего дома. Раздались шаги. В подвал полетели гранаты, у одного из повстанцев случился нервный срыв, и ему пришлось затыкать рот. Пыль заполнила подвалы. Внезапно все успокоилось. Жандармы пошли к следующей развлине. В течение дня они подходили много раз, бросали гранаты и стреляли в окна подвалов наугад. Ночью наши сняли бело-красные повязки, построились и, притворяясь немцами, помаршировали через сад мимо патрулей вплоть до последних неприятельских позиций и всем скопом перебежали на польскую сторону улицы Крулевской. Повстанцы приняли их за немцев, открыли огонь и одного убили.
Это уже не солдаты – это волки, таких только хорошо вооружить. Когда я это слушал, сердце у меня колотилось, словно я сам там был. Кто теперь способен почувствовать, что значит быть в окружении немцев? Сомневаюсь, что даже сами участники этих событий.
Вместе с группкой друзей автор попадает в спокойный район возле Вислы - Чернякув.
Следующий день, 5 сентября, прошел в ожидании ночи под аккомпанемент канонады со стороны Северного Средместья. Чтобы не потерять группировку "Радослав" из виду, мы остановились возле них. Эдек, хотя провел большую часть дня у них на квартире, не узнал ничего нового. Отряды "Зоська" и "Парасоль" шли на Чернякув, кроме того, явно готовилось, если уже не началось, наступление к северу от Иерусалимских Аллей. Этот факт подтвердил наши предположения, что они попробуют выйти из Варшавы. Вся их болтовня на тему дальнейшей борьбы просто очковтирательство. Ловкачи, все говорят одно и то же. Следовало держаться их любой ценой. Поэтому весь день мы не отходили от них ни на шаг.

Район Повислье горит после обстрела
На Чернякове автор находит мать и отца и посещает свою квартиру, однако не может там оставаться, потому что она находится под обстрелом. Однако в целом здесь царит спокойствие.
- Нашли о чем беспокоиться, подождите пару дней.
Это в свою очередь привело к новым обвинениям в подрыве боевого духа и ворчанию о коммунизме. Эдек в ответ – что нечего подрывать. Пожилой сержант-артиллерист, живший на первом этаже с другой стороны двора, помянул "дезертиров со Старого Мяста".
- Мы тут проливаем кровь, а эти дезертиры занимаются вражеской пропагандой.
К сожалению, я не был свидетелем этой сцены, но мне рассказали о ней в деталях. Словесный поединок разгорелся между окном, в котором стоял артиллерист, и серединой двора, при молчаливом участии значительной части жильцов. Эдек немедленно парировал, поучая артиллериста, чтобы порез пальца при открывании консервов не отождествлял с проливанием крови за отечество, и призвал его, если он не трус, принять участие в ночной разведке на Фраскати. Эдек вызвался сопровождать его (туда отправляли только добровольцев). В конце концов, он привел артиллериста в состояние такого раздражения, что тот, уже не юнец, кричал на весь двор что-то о том, что собственной грудью, что танки, что падет, а не пропустит. Общественное мнение было на стороне зрелого возраста и патриотизма и осудило молодость и цинизм.
Период "выздоровления" закончился, когда немцы ожесточенно атаковали Чернякув, который после освобождения советскими войсками Праги (правобережного района Варшавы) стал единственной территорией, откуда повстанцы могли установить контакт с русскими.
Я не мог себе простить, что мы не пошли раньше – вчера, а даже еще сегодня утром дорога была свободна. Теперь я бы был в Средместье и в бинокль смотрел бы на Чернякув. Когда упали первые снаряды "Берты", было ясно, чья очередь пришла.
В нормальное время, выводя утром собаку на прогулку, человек не обратил бы внимания, что листья переливаются в кронах деревьев, туман поднимается над водой, а волны серебрятся. Спокойствие в природе подчеркивали редкие, приглушенные выстрелы.
Внезапно начинается "шторм" и уже не прекращается ни на минуту. Связь прерывается. Каждый где-то притаился и не двигается. Грохот и только грохот. Иногда слышится название – Мучная. Остальной Чернякув пропал с карты. Идут на Мучную, Мучная отрезана, есть связь с Мучной, кто-то пробрался с Мучной, на Мучной плохо, на Мучной неплохо, неизвестно, что на Мучной. Где же эта Мучная, размышляю я. Мы как на острове. Дома на Загурной от 16 до 10 номера соединены проходами в подвалах, зато чтобы пробиться к меньшим номерам и к Висле, надо перебежать через улочку Идзьковского. Дом на Загурной 16 на углу Черняковской наиболее подвержен обстрелу, поэтому туда мы вообще не ходим. Целый день мы проводим в подвалах со штатскими и ранеными повстанцами, между 14 и 10 номерами, не высовываясь даже на первый этаж.
Отряды "Радослава" находятся всего в 200-300 метрах, но этот путь надо было преодолеть под обстрелом, а это значило, что для преодоления этой дистанции может не хватить жизни...
Стена начала рушиться, и нам пришлось сгрудиться на пространстве в несколько шагов. Кирпич крошился рядом, я мог достать рукой. Я думал... это смерть, смерть, смерть. Звук этого слова, как эхо, без конца раздавался внутри моей головы. Уже столько раз пули щипали стену возле меня, но никогда мне в голову не приходили такие мысли. Штатские не сводили с меня глаз, потому что я стоял всего в шаге от того места, куда очереди ударяли снова и снова. Они не понимали, что, прежде всего, опасаться надо гранатомета. Пятнадцатилетний парень обращался к пожилому культурному пану на "ты", я заметил, что все говорили друг другу "ты". Конец!
Затрещали оболомки, и к нам вбежала связная, а точнее женщина-связной, на вид лет тридцати, вся покрытая пылью. Мы окружили ее полукругом. Она остановилась по дороге с Вилановской на Загурную, чтобы отдышаться и осмотреться. Неподалку она попала под пулеметный огонь, и ей пришлось ползти. После бегства с Загурной это был первый наш контакт с миром. Она говорила спокойно, слегка растягивая слова по-виленски. Нечасто бывают связные в таком возрасте, и я подумал, что она несет важные новости.
Штатские забросали ее вопросами.
- На Вилановской все хорошо, общее положение хорошее, - отвечала она.
Я внимательно присматривался к ней. Обманывали не столько ее слова, сколько безмятежность. Я догадывался, что она относится к людям, для которых жизнь значит меньше, чем дело, которому они служат. Я никогда не мог их понять. Рядом с такими не так страшно умирать. Она быстро упокоила людей. Видно было, как они расслаблялись, слушая. И голоса их стали звучать по-другому, они уже не обращались друг к другу на "ты", говорили "пан" и "пани". Надо было иметь большую силу духа, чтобы так хорошо обманывать в такой ситуации. Я знал, что она обманывала, не знал, насколько. Я верил и не верил ей, и это усилие, чтобы не дать себя обмануть, еще больше напрягало мои нервы. Люди советовали ей не идти дальше. Подробно расспросив о рельефе территории, она успокоила нас:
- Ничего со мной не случится. Меня пули не берут, - и побежала к Загурной. Мы прислушивались, чтобы ее не подстрелили, но невозможно было сориентироваться среди трескотни. Едва она исчезла, я почувствовал, что мне не хватает этой необыкновенной женщины. Другие наверняка так же реагировали на ее уход, судя по тому, как усиленно уговаривали ее остаться. В результате ее короткого пребывания мой страх только усилился, словно я увидел вестника несчастья в виде ангела.
В замешательсве автор теряет контакт с Эдеком, Ханкой и Витольдом. Преодолевая очередные метры под обстрелом, он находит укрытие в маленькой яме в земле, выкопанной одним из случайно встреченных пвстанцев. Убежище имеет площадь 22 метра. Там находятся три человека и автор.
- Немцы? – шепнул я.
Он кивнул. Все лицо его побелело. Мы задвинули крышку. Я снял шлем и сунул под себя. Я обманывался, зная, что обманываюсь, что Романа в мундире Вермахта посчитают владельцем шлема, а нас троих не расстреляют. Адамчик вынул бумажник и псопешно начал в нем рыться, нашел удостоверение АК, сложил его несколько раз и сунул в щель между досками. Немецкие голоса доносились со стороны дыры, откуда прибежали мы с Романом. Значит, немцы были с обеих сторон площади. Сейчас подойдут к крышке. В груди у меня кололо, словно я вдохнул кнопки. Роман развязал узелок, подарок невесты, вынул бутылку ликера "Сacao chois", сделал пару глотков и подал мне. Я глотнул в свою очередь, стараясь не выпить всю порцию сразу, и передал Адамчику. Он же, запрокинув голову, так что донышко бутылки коснулось крышки, пил и пил; выступающий кадык двигался на худой шее ритмично как поршень. Я подумал, что это не по-товарищески, он пьет то, что я не выпил, мою долю. Меньше всего досталось парню. Я смотрел на свои руки, не дрожат ли; все тело под кожей было в постоянном движении, лицо немело, губы пухли. Несмотря на то, что стало тихо, время от времени раздавались автоматные очереди, и только Господь Бог мог знать, стреляли ли это еще или уже расстреливали. Слыша шаги, я всматривался в лица, чтобы определить, слышат ли и они. Выстрелят ли немцы через крышку, думая, что мы вооружены, или сначала отодвинут ее в сторону. Как избавиться от шлема, думал я лихорадочно, словно это могло что-то изменить. Держать под коленями, сесть на него. Вскоре никаких мыслей не осталось. Остался только слух, ожидание шагов. Время остановилось, хотя проходили секунды и минуты. Уже ничего не могло произойти в моей жизни между этой минутой и той, когда крышка после пинка сапогом отлетит в сторону, и надо мной в последний раз сверкнет солнце. То я боялся, что кто-то из моих товарищей выскочит и начнет кричать, то, обманутый тишиной, подозревал, что наступило перемирие.
Зачем мы друг друга убиваем. Я выйду к немцам и скажу им, что мы должны быть братьями... братьями навсегда... я переводил это на немецкий... wir sollen bruder sein... довольно войны... nie wieder Krieg... nie wieder Krieg... wir sollen bruder sein – мы сядем у костра... я буду им рассказывать о Пассаже, об Арсенале... о "Владе", о "Шофере".
То мне снова казалось, что я слышу шаги. Все мое тело словно бы состояло из маленьких пружинок или было наполнено стеклянной крошкой, все дрожало и кололо без конца. Я чувствовал, что меня будет рвать до конца жизни. Адамчик говорит по-немецки, он спасется, парень слишком молод для расстрела. В колодце стемнело. Видимо, мы оказались в тени.

ZАвиасъемка территории боев на Чернякове.
Цифрой "1" обозначено место, в котором автор спрятался от обстрела.
Цифра "2" обозначает место, куда автор стремился попасть – это здание на улице Окронг 2.
Взводный "Тур" – Господи, упокой его душу, хотя трупа я лично не видел – вызывал больше симпатии, чем уважения. Стареющий, добродушный, полноватый, человек, которого природа приготовила для должности начальника склада и который видимо неожиданно для самого себя оказался на передовой. Не думаю, что он выжил. Мне казалось, что если от страха он перестанет соображать, то забудет снять бело-красную повязку.
Дом слегка взрагивал от ударов снарядов в стену со стороны Вилановской. Доминировал неустанный грохот автоматического оружия из множества стволов сразу. Постоянно приносили повстанцев "Радослава" с ранами головы. Могил уже не копали, санитары-носильщики складывали тела по другой стороне двора и быстро убегали на лестницу.
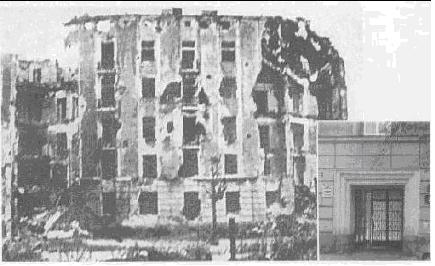
Дом на улице Окронг 2 (после боев)
в правом нижнем углу – ворота дома, где автор стоял на страже (современная фотография)
Я напрасно потратил две ночи на Вилановской. Я подумал: выберу байдарку в самом хорошем состоянии и отложу в сторону, подожду до наступления темноты и поплыву на другой берег. Я осмотрел байдарки, некоторые пробиты пулями, но несколько было в неплохом состоянии.
Возле гаражей стояли два гранатомета. Я заговорил с их расчетом. Мне хотелось увидеть, как они стреляют, но боеприпасы уже закончились. Я спросил у того солдата, который говорил по-польски, о его фронтовом опыте. Я сделал это не только из любопытства, которое возвращалось, как только у меня улучшалось настроение, но также с целью поддержать боевой дух сражавшихся. Берлинговец сказал, что уже долго служил, но нигде не было так тяжело, как здесь.
- Где ты был? – спросил я.
Он назвал несколько населенных пунктов в центральной России, которые видимо пользовались исключительной репутацией в советской армии. Одно название мне было даже знакомо по тяжелым боям, которые шли там. Я выразил удивление, отчасти правдивое, чтобы склонить его к дальнейшим откровениям.
- Здесь хуже, чем в Сталинграде, - заявил он.
Мне это очень польстило. Попробовал бы ты Старувки – подумал я. Удивление должно было отразиться на моем лице.
- Не веришь?... У нас есть такой, что был в Сталинграде. Он крикнул солдату, который на другой стороне двора возился возле маленькой радиостанции:
- Гриша! Где хуже, здесь или в Сталинграде?
- Здесь хуже!
- "Вис"! – позвал я. Он посмотрел и узнал меня, несмотря на плащ.
- "Вис"! "Вис"! – я хотел что-то сказать ему.
Я хотел и предостеречь его, как старик сына, и гордился им. В горле у меня стоял ком. Он еще не сошел вниз, когда нас разделили берлинговцы. К нему подскочил сержант.
- Браво, браво, шестеро лежат, - закричал он.
У "Виса" едва дрогнул уголок рта. Канонада усилилась. "Вис" повернул назад, я спустился в подвал. Я чувствовал себя как тряпка, мне не хватило отваги взять его за руку и вместе пойти наверх. Неужели он не понимает, что это уже конец.
Больше всего меня пугала уверенность, что только я один знаю правду о том, что спасения не будет. Так или сяк... конец. Все остальные, казалось, на что-то рассчитывали, что что-там будет, что лодки, что русские, что не всех расстреляют. Я тоже должен был на что-то рассчитывать, иначе попросил бы автомат. И что бы мне это дало! Безымянным погибнуть с оружием в руках, вместо того, чтобы безымянным получить пулю в затылок, безымянным сгореть живьем, безымянным утонуть. Важно было не умереть в ближайший час, жить с минуты на минуту. Прожить до захода солнца это все равно, что стать бессмертным, как будто ночь должна была длиться вечно.
Пришла новость, что подплывают лодки.
Началось оживление. Несмотря на предостережение, чтобы заранее не выходить на берег, самые нетерпеливые уже поодиночке выскальзывали наружу. Во дворе росла толпа. У стен складывали все больше раненых. Я потерял из виду повстанца, моего несостоявшегося товарища похода к мосту. Я решил, что на открытое пространство между Сольцем и Вислой не выйду. Стоя в переходе от ворот к кухне, я смотрел, как вереница людей проходит мимо, почти касаясь меня. Они появлялись из темного двора, шли через освещенные и раскаленные языками пламени ворота и исчезали в темноте. Что там только не несли. Байдарки, лодки, доски, вязанки дров, велосипедные камеры, обмотанные вокруг нагих торсов. Девушки поддерживали хромающих; мужчины несли раненых на носилках, на дверях. Все больше вооруженных людей спускалось к реке. Что-то во мне кричало... не ходите, вы погибнете, не оставляйте меня одного. При свете огня в последний раз блестели стволы, кокарды с орлами в короне и без, пряжки офицерских ремней, пряжки с надписью "Gott mit uns".
Я узнал артиллериста "Слава", единственного из пяти уцелевших из роты "Лиса", товарища из расчета 20-миллиметровых орудий. Вместе с двумя другими он нес байдарку. Он был удивлен так же, как и я, и повторил несколько раз:
- "Шаг", "Шаг". Что ты тут делаешь?
- Я один... у тебя есть вода? – спросил я.
"Слав" подал мне фляжку. Я сделал большой глоток.
- Пей, пей, - сказал "Слав", - мы уже были на берегу.
Когда мы так стояли, загородив проход, люди обходили нас, протискиваясь между байдаркой и стеной, толкая нас. Невозможно было отступить назад во двор.
- Пошли с нами, будешь четвертым, - предложил "Слав".
- Один сядет на носу, один сзади. Я посмотрел на байдарку – она и троих не выдержит, перевернется. У них был котелок, чтобы вычерпывать воду.
- Нет, не пойду. Несмотря на отказ, они по-прежнему ждали, как будто я еще колебался.
- У тебя есть какая-нибудь еда? – спросил я. Он дал мне кусок сахара.
- Не пойду, - повторил я.
Они подняли байдарку и пошли в темноту. Мне вспомнился мой несостоявшийся товарищ переправы по мосту. Я пошел на поиски. И днем легко перепутать людей, а тем более теперь. Я подходил близко к стоявшим маленькими группками, заглядывал в лица, пару человек смерили меня взглядом, видимо не понимая, что мне надо. Если бы времена были другими, наверняка не один буркнул бы мне что-то или обругал. Я обошел двор и гаражи. Мне казалось, что только я брожу в одиночестве, а у всех остальных есть кто-то, товарищ, друг. Вдали от огня повстанцы сбрасывали с себя немецкие мундиры, нагие тела мелькали на фоне огня. Кто-то появился только в плавках, опоясанный венком из бутылок и, бренча ими, побежал в темноту к реке. Становилось пусто. Движение постепенно прекращалось, и пустота воцарилась в воротах, во дворе и во флигеле. Зато от Вислы доносились голоса. Сначала одиночные, приглушенные, потом все смелее, переходящие в гомон. Иногда я даже мог разобрать слова.
- Нет места.
Кто-то рявкнул:
- Тихооо... тихо, немцы услышат.
Я сидел в воротах, всматриваясь в невидимую Саксонскую Кемпу. Судя по усиливающемуся шуму, переправа не удалась. Известно, что происходит в такой ситуации. Слишком много людей садится, лодка набирает воду, тонет, все выходят, выливают воду, снова садятся, лодка набирает воду...
Между тем добрые люди забрали раненых штатских со двора и из ближайших развалин и отнесли их в арку, чтобы не лежали под открытым небом.
И произошло то, что должно было произойти. Вверху засвистело, раздались очереди, одна за другой. Неустанно палили гранатометы. Искры летели наискось напротив ворот на Солец и Вислу. В темноте что-то сверкало. Я спрятался в узком пространстве между догорающим фасадом дома и одноэтажным флигелем. На берегу все кипело и клубилось. Когда все затихло, вернулись только несколько человек.
Я вышел во двор к гаражам. Здесь было пусто, мрачно, рыжевато, словно красная луна светила сквозь тучи. Утром ворвутся немцы, после короткой перестрелки споротивление будет подавлено, и начнется расстрел. Как бы это устроиться подальше от солдат, вместе со штатскими. Лучше всего было бы вместе с парой десятков женщин и детей и несколькими немолодыми мужчинами. Найти укромное место, как можно ближе к немцам. Когда на рассвете они пойдут вперед, то выгонят нас, прежде чем начнется бой, прежде чем они разозлятся. Спрятаться вдали от Вилановской 5 и Сольца 53, где было множество раненых и здоровых повстанцев, берлинговцев и выживших со Старувки в немецких мундирах. Я обошел двор по периметру, заглядывая в каждый уголок. Между торцевой стеной сгоревшего дома с окнами на гаражи и торцевой стеной прилегающей развалины, повернутой в противоположном направлении во двор дома Солец 51, я нашел метровой ширины щель. Она была достаточно далеко от Вилановской 5, но слишком близко к воротам флигеля.
Главным недостатком щели было то, что хотя она тянулась почти во всю длину двора, заканчивалась тупиком с западной стороны, откуда должны были прийти немцы. Единственный выход из нее был с востока, в паре десятков шагов от ворот. При таком рельефе местности немцы могли одновременно выгнать штатских из щели и повстанцев из флигеля и в суматохе всех вместе расстрелять. Они не могли забрать нас из щели, не захватив флигеля. Это подрывало мою концепцию, заключавшуюся в том, чтобы попасть в руки немцев утром, до начала боя, отдельно от солдат во флигеле. Однако я не нашел никакого другого места, подходящего для укрытия. Поэтому не оставалось ничего другого, как воспользоваться щелью и надеяться, что короткое расстояние, отделяющее щель от флигеля, предопределить нашу судьбу.
Я вернулся во флигель и рассказал штатским, сгрудившимся на лестнице и в подвале, о достоинствах щели. Как можно красочнее я описал то, что произойдет, когда немцы войдут и увидят повстанцев и множество брошенных мундиров. Меня слушали с интересом, но, как обычно, никто не хотел шевелиться. В конце концов, одна из женщин среднего возраста согласилась посмотреть это восхваляемое мной место. Едва увидев его, она возмутилась, что такими идеями я морочу людям голову.
Постоянно слыша, как хорошо на Загурной, я начал сомневаться, правильно ли я делаю, не идя туда. Однако никто не знал, как пройти на Загурную, поскольку всюду по дороге были немцы.

Рышард Халупиньски "Слав"
Переправиться через Вислу оказалось невозможно. Остается ждать в сгоревших развалинах у берега реки и проживать последние – как кажется – минуты в жизни.
Глядя, я представлял себе, что после войны всю эту сцену я опишу Рысеку, приукрашивая и драматизируя, а он поднимет тонкие брови над проволочными очками, нахмурится и покивает головой. Так он обычно делал, когда в шутку притворялся удивленным.
Солдат-берлинговец, присевший на корточки рядом, потряс меня.
- Отодвинься, угоришь.
Я растрогался. Кто-то, кого я никогда не встречал и не встречу, сам раненый, беспокоится о моем здоровье. Слева раненый подпоручик, тоже берлинговец, растягивая слова, как житель Кресов, медленно и с остановками разговаривал со связной из "Парасоля" с ампутированной рукой. До сих пор я не обращал на них внимания... Краем уха я услышал:
- Вы героическая молодежь.
...и тогда я почувствовал неописуемое счастье... прошла дрожь, и погас внутренний огонь, который испепелял, не грея. Сам себя я считал куском пушечного мяса, а тут кто-то, кто тоже ждет смерти, называет нас героической молодежью. Если он это говорит, то видимо не боится этой странной вещи, называемой смертью. Не боится, потому что смерть не существует. Вроде бы она есть, но ее нет. Смерть не такая, как думает каждый, я сам давно это подозревал. Мы возьмемся за руки и пройдем через смерть, как через туман. Когда выстрелят, и в груди заколет, и весь мир закачается, надо глубоко дышать и крепко держаться за руки... чтобы только не упасть и пройти.
То меня охватывало отчаяние из-за того, что я засиделся на Окронг и потерял две ночи на Вилановской. Я мог выбрать самую лучшую байдарку, у меня было время починить самую худшую, обмотаться велосипедными камерами, обвеситься бутылками. Где Эдек, может, он жив и что-то придумывает, он смог бы посадить в лодку себя и друзей.
То мысль возвращалась к лучшим временам, к Пассажу, но образ кипящего жизнью Пассажа заслонял Пассаж вымерший. Темно, пусто, тихо, немцев нет, под руинами лежат они все...
Кухня. Столько неподвижных фигур в темноте. Чего они ждут. Я знал, что нас всех убьют, однако чувствовал себя так, словно я один должен был перестать жить.
Убьют... убьют...
Слово "расстрел" относилось к другим временам, когда к смерти относились с большей лихостью.
Убьют... убь-ют... убь-ют... убь-ют - убь-ют...
Я мог понять только чужую смерть. По мере того, как слова "смерть" и "убьют" неустанно повторялись в моих мыслях, я все меньше их понимал, они все больше меня пугали.
Я чувствовал, что потеряю сознание, мне не хватало воздуха. Я протолкался из кухни к воротам и в последний раз вышел во двор. Огонь уже погас, красное свечение сменилась темнотой. Я еще раз обошел двор по периметру, ища укрытия, надеясь, что возможно раньше что-то пропустил. Сразу же при выходе из ворот справо было свободное пространство, перегороженное баррикадкой из бревен, с видом на Вилановскую 1 в польских руках, а также на дома по четной стороне улицы, где, согласно моим данным, находились немцы.

Послевоенная фотография развалин здания на улице Вилановской 1
отсюда автор вышел на немецкую сторону.
Оборона Черняковского плацдарма продолжалась еще 2 дня. С целью подчеркнуть мужество немецких солдат, в рапорте Вермахта было написано, что оборона последнего здания (показанного на этой фотографии) продолжалась 24 часа.
Тогда из углового дома справа выбегают солдаты; не в фельдграу, а в едко-зеленых мундирах. Полиция.
Они машут нам руками, и через минуту мы уже среди них. По светло-коричневым кантам я узнаю Feldgendarmerie. Они выглядят свежими, чистыми, выбритыми, отдохнувшими, словно только что начали воевать. Довольные лица – вот крысы и бегут, значит, корабль тонет. Я снова в оккупации.
выбор и обработка комментариев: Войцех Влодарчик
обработка: Мацей Янашек-Сейдлиц
перевод: Катерина Харитонова
Полная версия книги доступна на сайте: Яна Курдвановского

|
капрал Ян Курдвановски, псевдоним "Шаг", |
Copyright © 2015 SPPW1944. All rights reserved.